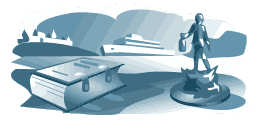ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ
Судно было новое, громадное, длиной сто тридцать метров. Четырехпалубное. Когда оно подходило к дебаркадеру какой-нибудь прибрежной деревеньки на "зеленую стоянку", казалось, домики прижимаются к земле, как стайка маслят в траве. Будто надвигается на них бе-лый многоэтажный город и вот-вот подомнет под себя...
Впрочем, "зеленые стоянки" не вызывали у пассажиров энтузиазма. Мокрая трава, серое небо... Все было хорошо в этом плавании, кроме погоды. Дули зябкие ветры, иногда швыряли в "Кутузова" горстями колючие дожди. Погудев и включив марш "Прощание славянки", теплоход, как айсберг, отваливал от берега и уходил на пасмурный простор реки. Туристы сидели в каютах и салонах. Торчали у окон или смотрели в кинозале видяшки.
Но Кинтель много времени проводил на палубе. Точнее, на палубах. Чтобы не озябнуть без движения, он поднимался и опускался по трапам, обходил от кормы до носа и обратно одну палубу за другой. Смотрел на подернутые моросью берега, где медленно плыли назад высокие леса, села с колокольнями, похожие на сказочные городки монастыри и просторные, как тысячи стадионов, луга... И уравняв свою скорость со скоростью теплохода, реяли над кормой чайки. Крупные – совсем белые, а поменьше – с черными головами. Ровно бурлила у бортов вода...
Когда Кинтель оказывался на носу, он часто видел там этого мальчишку. Тот кутался от ветра в большую (наверно, у матери взял) поролоновую куртку и стоял всегда у поручней, отгораживающих бак – носовую площадку с запасными якорями и с брашпилями, на которую вход пассажирам был запрещен. Ветер вскидывал у него, будто крылья, коричневые волосы, а мальчишка не отворачивался, смотрел вперед.
Иногда появлялась молодая красивая женщина, говорила негромко, но отчетливо и звонко – так, что было слышно далеко:
– Салазкин, опять ты здесь. Пойдем, а то совсем продрог.
Мальчик не спорил, уходил с мамой. Но скоро вновь оказывался у поручней бака.
Встречал Кинтель Салазкина и в других местах. Тот обитал с матерью и отцом (худым дядькой в больших очках и с профессорской бородкой) через три каюты от Кинтеля. И в ресторане их столики были недалеко друг от друга. И Кинтель скоро поймал себя на том, что приглядывается к этому мальчишке больше, чем к другим ребятам. Сперва он посматривал на Салазкина со спрятанной в себе снисходительной усмешкой. Мальчик был ужасно благополучный, выросший в семейном тепле, при неустанных маминых заботах. Забота эта сказывалась в мелочах, которые украдкой подмечал Кинтель. В том, как мать во время обеда незаметным шепотом учит сына держать нож и вилку, как поправляет на нем воротничок и как из каюты окликает его в коридоре: "Салазкин, ты куда? Пожалуйста, не убегай надолго!"
"Небось на скрипке играть учится, – думал Кинтель. – Или на фигурное катание ходит... А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень... Хотя, скорее всего, он из спецшколы – из музыкальной или английской, там все такие..."
Салазкин не стеснялся приласкаться к родителям на глазах у посторонних. Подойдет, потрется о локоть матери щекой, как котенок, или подкрадется сзади к отцу, прыгнет на спину и повиснет, болтая худыми ногами в черных колготках. Мама одевала свое дитя, как детсадовского мальчика. "В третьем классе, наверно, а все еще как дошкольник – внутри и снаружи", – думал Кинтель.
Впрочем, в размышлениях Кинтеля не было никакого недоброго чувства. Был стыдливый интерес, которого Кинтель стеснялся даже перед собой. Потому что получалось, что он вроде бы заглядывает в чужое окно. В чужую жизнь, где рядом с мальчиком есть мама и папа, где можно позволить себе быть маленьким – доверчиво, без оглядки, без страха.
Если представить человеческую душу в виде пчелиных сот и если предположить, что душа тем счастливее, чем больше ячеек заполнено радостью и любовью, то полного счастья Кинтель не смог бы достигнуть никогда. В самые блистательные моменты жизни одна ячейка все равно чернела бы сиротской пустотой... Нет, Кинтель не жаловался. С Толичем жилось неплохо. Без сомнения, дед его любил. Но так же несомненно, что между любовью деда и маминой любовью – большая разница... А отец жил своей жизнью и Кинтеля вспоминал от случая к случаю...
Завидовал ли Кинтель Салазкину и другим ребятам, которые плыли на теплоходе с родителями? Пожалуй, нет. Какой смысл завидовать той жизни, которая несбыточна? Он только ощущал себя как бы отгороженным, не совсем таким, как остальные, – те, что всегда с отцами и матерями. И видимо, потому не сошелся ни с кем из мальчишек и девчонок на "Кутузове". Только издалека он смотрел на чужую семейную жизнь, ревниво подмечал у ребят и взрослых неповторимые черточки этой жизни: неприметную ласку или нарочитую ворчливость родителей в отношении к своим чадам, умение понимать друг друга без слов, какие-то забавные привычки – вроде той, когда мать зовет сына по фамилии: Салазкин...
Однако скоро Кинтель понял, что Салазкин – не фамилия, а домашнее прозвище мальчишки. Потому что отец иногда окликал его "Саня", мать порой ласково звала "Санки". Ну и ясно: Сани-Санки-Салазкин. А фамилия у него была Денисов. Кинтель это узнал, когда шли по Рыбинскому водохранилищу.
Плавание только начиналось, но Кирилл Георгиевич – специальный человек, отвечающий за развлечение пассажиров – к тому времени уже устал унимать ребят всех возрастов, которые носились там и тут по теплоходу, лезли куда не надо. С утра до вечера он уговаривал по радио родителей следить за сыновьями и дочками. И наконец решил взяться за воспитательную работу. Попросил всех ребят собраться в музыкальном салоне и объявил, что в конце путешествия будет большой концерт детской самодеятельности (с призами!), а пока надо выявить таланты. Кто что может. Петь, читать стихи, танцевать, играть на пианино...
Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. И этот "детский праздник на лужайке" его мало интересовал. Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора и смотреть, как серый простор катит навстречу пенные валы. Рыбинское море разгулялось. Громаду "Кутузова" даже покачивало – палуба иногда мягко уходила вниз, и это вызывало легкое, приятное замирание. Неподалеку шел параллельным курсом длинный низкий сухогруз, и видно было, как белыми взрывами – выше рубки – встает у него перед носом штормовая вода. Над баком "Кутузова" тоже взлетали гребни. Ветер подхватывал брызги и клочья пены, швырял их на стекла, хотя салон был аж на третьей палубе. И не разглядеть было берегов. В общем, как в настоящем море (которого Кинтель еще ни разу не видел)...
А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихотворения, кто-то бацал на клавишах нехитрые мелодии, семилетние близнецы Вера и Вовчик, несмотря на покачивание, умело станцевали ламбаду. Толстая девочка Рита спела "Эскадрон моих мыслей шальных", и ей очень хлопали... Надо сказать, что всё музыкальное сопровождение песен и танцев взяла на себя мама Салазкина. И вот он сам вышел к пианино.
Кирилл Георгиевич объявил:
– А теперь Саня Денисов из города Краснодзержинска споет...
Кинтель не расслышал названия песни. Его удивление было похоже на мягкий толчок. Значит, они из одного города! (А собственно говоря, чему радоваться? Не все ли равно? Зачем ему этот мамин Салазкин?..)
А Саня Денисов о чем-то шепотом препирался с матерью. Кинтель разобрал его тихо шелестящие, но упрямые слова: "А другую я не буду... Тогда никакую не буду..." Надо же, мальчик умеет спорить с мамой...
Мать Салазкина слегка пожала плечами, улыбкой прикрыла от собравшихся минутный конфликт и заиграла. И Саня Денисов запел.
Голос у него был совсем не сильный. Голосок. Но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу проникающим в сознание тоненьким звоном. И песня была... не о кузнечике, не о солнышке и улыбке, не о теплом дождике и прочих детсадовских радостях. Мелодия показалась Кинтелю знакомой, чем-то похожей на тот же "Эскадрон", хотя и не такая залихватская. А слова... Никогда раньше Кинтель их не слышал.
Над волнами нам плыть,
По дорогам шагать,
Штормовые рассветы встречать.
Нам коней горячить,
Догоняя врага,
Карабины срывая с плеча...
В каждом куплете две последние строчки Салазкин повторял дважды. Песня звенела, и многочисленные звуки "ч" ("горяЧить", "с плеЧа") энергично врубались в мелодию, словно подчеркивая кавалерийский ритм.
И быть может, в траву
Упадем мы с тобой,
И рассвет не пробьется в ночи.
Но трубач ни за что
Не сыграет отбой -
Не смогли мы его научить...
Мы учили его:
Если грянет беда,
Звать в атаку друзей за собой.
Наш трубач никогда,
Никогда-никогда
Не слыхал о сигнале "отбой"...
Кинтель задержал дыхание... Казалось бы, песня как песня, что такого. Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка. Потому что пел Салазкин вроде бы и не на маленьком концерте в салоне, а на крепостной стене, среди побитых ядрами каменных зубцов. Словно сам он был маленький трубач осажденного войска и бросал врагам последний вызов.
Скоро день расцветет,
Словно огненный клен,
Голос горна тревожно-певуч.
Поднимайся, мой мальчик,
Рассвет раскален,
Бьется пламя под крыльями туч...
Помолчали сперва, потом захлопали – сильнее, сильнее. Салазкин стоял, потупившись, перебирая на подоле синего свитера шерстинки... А Кинтель встал и осторожно, за спинками кресел, выбрался к выходу. Потому что никаких других песен, а тем более стишков и "легкой музыки" ему было не надо.
Кинтель был неравнодушен к трубачам. Такой уж, наверно, он уродился несовременный. Старинные печальные марши духового оркестра волновали его гораздо больше, чем хитрые ритмы синтезаторов и электронных гитар. От посторонних Кинтель это свое увлечение, конечно, скрывал: обсмеют с головы до ног. И только с дедом они иногда по вечерам ставили на проигрыватель пластинку, с которой неслись трубные голоса двенадцатого года и Севастопольской обороны. А еще – мелодии вальсов, которые в давние-давние времена (когда была молодой прапрабабушка Текла Войцеховна) играли в садах и на бульварах военные оркестры.
А один раз Кинтель чуть сам не сделался музыкантом в оркестре. Это еще когда он жил с отцом. В двух кварталах был детский клуб "Орбита", и в нем занимался ребячий духовой оркестр. Упругие звуки волторн и геликонов слышны были даже сквозь двойные стекла.
Как-то раз, весной третьеклассник Кинтель прижался носом к окну и увидел оркестр при полном параде. Наверно, шла генеральная репетиция. Все ребята (даже девчонки) были в алой гусарской форме и черных лаковых киверах с золотыми кистями. А трубы сияли так заманчиво, марш звучал так призывно, что Кинтель не выдержал – через несколько дверей и коридор проник в зал.
В перерыве его заметили, но не прогнали. Высокий дядька с черными глазами и с бородой, как у Емельяна Пугачева на портрете, поставил Кинтеля перед собой и спросил:
– Что, явился на звуки труб?
– Ага... – выдохнул Кинтель. – А мне можно... у вас?
– В принципе можно. Только подрасти сперва.
– А... сейчас?
– У нас с двенадцати лет занимаются. Понимаешь, надо, чтобы легкие были покрепче, зубы попрочнее...
Кинтель набрался смелости и сказал, что он и сейчас вполне прочный. Весь, от макушки до пяток.
– Можно я только попробую...
– Ну попробуй, – усмехнулся чернобородый.
Кинтелю дали серебристую трубу. Вроде пионерского горна, только длиннее. Называется "фанфара". Кинтель дунул, получилось шипение. Все засмеялись, но не обидно. Потом объяснили, как прижимать к губам мундштук и как толкать сквозь них воздух. Называется "атака языка". Кинтель попробовал разок, другой. Выдал хриплые звуки. Потом зажмурился, настраивая себя на серьезное дело. Сильно напряг губы. И у него получилось четыре разных звука, четыре чистые ноты. При этом кончик языка задрожал, и музыка вышла трепещущая, переливчатая.
– Ух ты, какое тремоло! – удивилась девочка с флейтой.
А бородатый руководитель сказал, что "мелодия почти как у Чайковского".
– Будто начало "Итальянского каприччио". Ну-ка, еще раз.
Кинтель попробовал снова. Получилось уже не так удачно, однако все зааплодировали.
И все же в трубачи Кинтеля не взяли. Сказали, что директорша клуба все равно не позволит. Но разрешили Кинтелю приходить на занятия и считаться запасным. И обещали, что, может быть, научат играть на барабане. Барабан, конечно, не сверкающая труба с живым голосом, но Кинтель был рад и этому. Тем более, что бородатый Вадим Петрович обещал подобрать для Кинтеля мундир и кивер.
Но скоро все рухнуло. Вадима Петровича прогнали из клуба и грозили ему всякими неприятностями. Говорили, что он занимается с ребятами нехорошими делами. Кинтель не понимал, что это такое. А когда ему объяснили, содрогнулся от отвращения и не поверил. И ребята говорили, что все это брехня, просто директорша невзлюбила Вадима за строптивый нрав и решила таким образом выжить его из "Орбиты". Впоследствии выяснилось, что так и было. Но в клуб Вадим Петрович не вернулся, стал играть в джазе какого-то ресторана. А оркестр без него распался...