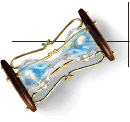
|
|

|
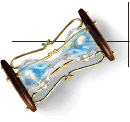
|
|
А. Н. СТРУГАЦКИЙ, Б. Н. СТРУГАЦКИЙ
КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Кажется, Марк Твен сказал: "Девятнадцатый век отличается от
двадцатого, главным образом, тем, что в девятнадцатом слова
оптимист и дурак не были синонимами". Двадцатый век приучил
нас к тому, что сбываются только мрачные пророчества, а ошибки в прогнозах
происходят лишь в дурную сторону.
Впрочем, может быть, так было всегда? Не случайно же возник "основной
парадокс футурогностики": все хотят знать будущее, но никто не хочет знать
правды о будущем.
Лет пятнадцать назад мы впервые задумались над вопросом: возможно ли
стабильное общество, в котором высокий уровень благосостояния сочетается с
полным отсутствием свободы слова и мнений. Нам представлялось тогда, что
наше общество движется именно в этом направлении - во всяком случае, с
инакомыслием у нас уже было покончено, а достижение благосостояния
казалось делом техники (как в переносном, так и в прямом смысле этого
выражения).
Безусловно, такое состояние общества выглядело бы идеальным с точки
зрения любой Административно-Командной Системы (АКС).
Самые широкие народные массы материально полностью ублаготворены:
научно-технический прогресс денно и нощно поддерживает достигнутый
материальный уровень и, более того, всячески норовит его повысить: хорошо
оплачиваемые деятели литературы, кино, театра и прочей культуры воспевают
существующий порядок и развлекают почтеннейшую публику высоконравственными
притчами, поучительными историями и точно выверенными по глубине
экскурсами в прозрачные рощи души Нового Человека... Господи, да это же
Эдем - в натуральную величину и притом рукотворный, созданный по мановению
и благодаря АКС! Всякий инакомыслящий, всякий противник существующего
порядка вещей, всякий критик АКС выглядит в этой системе попросту чучелом
гороховым, он, собственно, даже не опасен, он смешон.
Мы до сих пор толком не понимаем, почему, но такой мир, видимо,
невозможен. Во всяком случае, ни одной АКС в истории человечества создать
такой мир не удалось ни в античные времена, ни в эпоху НТР.
Любопытно знать, как отнесся бы к такому устройству мира Томас Мор?
Или Фрэнсис Бэкон? Сочли бы они такое устройство общества утопическим? С
точки зрения Герберта Уэллса, это - типичная антиутопия. С точки зрения
Карела Чапека или Евгения Замятина - тоже. А с точки зрения Кампанеллы?
Представления о том, каким мир должен быть, а каким не должен, в
каком мире хочется жить, а в каком - страшно, к чему человечеству надобно
стремиться, а от чего бежать, - представления эти меняются от эпохи к
эпохе разительно, диаметрально, так что кажется иногда, что добро и зло в
представлении человека способны меняться местами.
Хотелось бы нам жить в Городе Солнца? Упаси бог! Кому понравится жить
в казарме?.. А в мире "Туманности Андромеды"? Не знаем. Холодно. Стерильно
чисто и холодно... А вам, читатель?
А сами авторы утопий хотели бы оказаться в мирах, ими созданных?
Утопия и антиутопия - это не антонимы. Утопия - это мир, в котором
торжествует разум. Антиутопия - мир, в котором торжествует зло.
Создатель утопии всегда руководствуется рассудком, создатель
антиутопии - чувством.
Автор утопии рисует мир, каким он должен быть с точки зрения
разумного человека, автор антиутопии изображает мир, в котором
страшно жить.
Поэтому, на наш взгляд, правильнее все же говорить не об антиутопии,
а о романе-предостережении. Этот термин более отвечает содержанию
соответствующих литературных произведений, да и сути авторских намерений.
Пусть поправят нас специалисты, но нам кажется, что утопия родилась
очень давно, а умерла в XX веке. Что же касается романа-предостережения,
то родился он на грани XIX и XX веков и умрет не скоро, ибо литература
вкусила от сладкой горечи и познала болезненное наслаждение мрачных
пророчеств.
Во всяком случае, практическая прогностическая польза от
романов-предостережений ничтожна. Разве удалось крупнейшим литераторам
начала века предостеречь нас хоть от чего-нибудь? Нет, не удалось. Разве
сумели они предугадать и "вычислить" тот рукотворный ад, в который
погрузилось человечество двадцатого века? Ведь и Уэллс, и Хаксли, и
Замятин в конечном счете оказались не столько глубокими мыслителями,
сколько великими поэтами, не столько футурологами, сколько прорицателями в
самом что ни на есть античном смысле этого слова. Они почуяли страшную
угрозу, почуяли трупный запах из будущего, но кто будет гореть на кострах,
кто будет корчиться на дыбе, какой Сатана станет править бал и почему это
все произойдет, они не поняли и не угадали.
Они видели, какую апокалипсическую угрозу таит в себе победное
вторжение научно-технического прогресса в косный мир, едва-едва начавший
освобождать себя от морали и догм перезревшего феодализма. Они
догадывались, что это такое: вчерашний раб, сегодняшний холоп за штурвалом
боевого летательного аппарата или, хуже того, за пультом машины
государственного управления. Именно в научно-техническом прогрессе видели
они главную опасность, ибо им казалось, что наука всемогуща, а
всемогущество в лапах дикаря - это гибель цивилизации. И самое страшное,
что виделось им за горизонтом, - это превращение человека в робота,
исчезновение индивидуальности, номера вместо людей, рационализация чувств
и надежд, программируемый механизм вместо общества - по сути дела им
виделся все тот же Город Солнца, но выстроенный самыми современными
физиками, химиками, биологами, математиками под управлением самых
современных (извечно безжалостных) политиков...
Однако мы знаем теперь, что реальность оказалась гораздо страшнее,
чем эти их сумрачные прорицания. Опыт гнусных тоталитарных режимов XX века
обнаружил, что с человеком может происходить кое-что похуже, чем
превращение в робота. Он остается человеком, но он делается плохим
человеком. И чем жестче и беспощаднее режим, тем хуже и опаснее делается
массовый человек. Он становится злобным, невежественным, трусливым,
подлым, циничным и жестоким. Он становится рабом. (Похоже, мыслители конца
девятнадцатого подзабыли, что такое раб, - двадцатый век напомнил им об
этом).
Любой тоталитарный режим стоит - как на железобетонном фундаменте -
на идее беспрекословного подчинения.
Беспрекословное подчинение установленной идеологии.
Беспрекословное подчинение установленному порядку.
Беспрекословное подчинение установленному свыше начальнику.
Человек свободен в рамках беспрекословного подчинения. Человек хорош,
если он не выходит за рамки беспрекословного подчинения. Человек может
быть назван умным, добрым, честным, порядочным, благородным, только
лишь пока он не вышел за рамки беспрекословного подчинения.
Шла дрессировка. На гигантских пространствах Земли и на протяжении
многих лет шла титаническая дрессировка миллионов. Слово "роботы" не было
тогда еще в ходу. Слово "программирование" было неизвестно либо известно
только самым узким специалистам. Так что это следовало бы называть
дрессировкой человеков, но называлось это воспитанием масс.
Человек, как и всякое живое существо, включая свинью и крокодила,
поддается дрессировке. В известных пределах. Его довольно легко можно
научить называть черное белым, а белое - красным. Он, как правило, без
особого сопротивления соглашается признать гнусное - благородным,
благородное - подлым, а подлое - единственно верным. Если его лишить
информации и отдать - безраздельно! - во власть тайной полиции, то процесс
дрессировки можно вполне успешно завершить в течение одной-двух пятилеток.
Если установить достаточно жесткое наказание за выход (сознательный -
невольный, от большого ума - от явной глупости, с целью подрыва или без -
все это несущественно) из рамок беспрекословного подчинения, то человека
можно даже приучить думать, что он живет хорошо (в полуразвалившейся избе,
с лопухами вместо яблонь и с пенсией одиннадцать рублей ноль четыре
копейки). Только не надо церемониться! Если враг не сдается, его
уничтожают. Если друг - тоже.
Джордж Оруэлл ничего не предсказал. Он только фантазировал на хорошо
уже разработанную тему, разработанную до него и не им, а
специалистами-дрессировщиками по крайней мере четырех стран. Но он
правильно назвал то, что происходило с дрессируемым человеком. Он ввел
понятие "двоемыслие".
В тоталитарном мире можно выжить только в том случае, если ты
научишься лгать. Ложь должна сделаться основою всех слов твоих и всех
поступков. Если ты сумеешь возлюбить ложь, у тебя появится дополнительный
шанс на продвижение вверх (вкуснее жрать, пьянее пить, слаще спать), но
как минимум ты должен научиться лгать. Это не даст тебе
абсолютной гарантии выживания (в тоталитарном мире абсолютной гарантии нет
вообще ни у кого), но это увеличит вероятность благоприятного исхода, как
сказал бы специалист по теории вероятности.
Воображение рисует целые поколения людей "со скошенными от
постоянного вранья глазами". Действительность проще и скучней.
(Действительность всегда скучнее воображения, поэтому мы зачастую не
понимаем прорицаний даже тогда, когда они по сути своей верны).
Действительность демонстрирует нам хорошо выдрессированного человека, у
которого способность и умение лгать перешли уже на уровень инстинкта. Он
всегда и совершенно точно знает, что можно говорить и что нельзя; когда
надо разразиться аплодисментами, а когда надо сурово промолчать; когда
сигнализировать в инстанции надлежит немедленно, а когда
можно рискнуть и воздержаться; когда задавать вопросы совершенно
необходимо, а когда нельзя их задавать ни в коем случае. Без всякой
специальной подготовки он годен работать цензором. И даже главным
редактором. И вообще - идеологом.
Он до такой степени пропитан идеологией, что в душе его не остается
более места ни для чего другого. Понятия чести, гуманности, личного
достоинства становятся экзотическими. Они существуют только с
идеологическими добавками: честь - рабочая, гуманность -
пролетарская, достоинство - подлинного
арийца.
Поскольку ложь объявлена (и внутренне признана!) правдой, правда
должна стать ложью... ей просто ничего более не остается, как сделаться
ложью... у нее вроде бы попросту нет другого выхода...
Однако дрессированный человек, раб XX века, находит выход. У него
арестован и расстрелян - "десять лет без права переписки" - любимый дядя,
убежденный большевик с дореволюционным стажем, который, разумеется, ни в
чем не виноват, он просто не может быть в чем-либо виноват!.. Но в
то же время органы не ошибаются, они просто не
могут ошибаться... И остается только одно: хранить в сознании обе
эти правды, но таким образом, чтобы они никогда друг с другом не
встречались. Вот это искусство не позволять двум правдам встречаться в
сознании и называется "двоемыслием".
Двоемыслие помогает выжить. Двоемыслие спасает от безумия и от
смертельно опасных поступков. Двоемыслие помогает сознанию
рационализировать совершенно иррациональный мир. Двоемыслие поддерживает в
глупом человеке спасительный уровень глупости, а в ловком человеке -
необходимый уровень нравственной увертливости. Двоемыслие - полезнейшее
благоприобретенное свойство дрессированного человека. Оно продляет жизнь в
условиях тоталитарной системы. И оно продляет жизнь самой тоталитарной
системы. Ибо, окажись человек неспособен к двоемыслию, тоталитарные
системы вместе со своими подданными убивали бы сами себя, как убивают себя
штаммы наиболее беспощадных вирусов, вызывающих пандемии.
Почему никто из великих прорицателей начала века не предсказал этой
пандемии двоемыслия?
Может быть, они были излишне высокого мнения о человеческих
существах? Нет, этого не скажешь ни об Уэллсе, ни о Хаксли, ни о Замятине.
Может быть, такое явление было слишком трудно себе представить? Может
быть, находилось оно за пределами воображения? Отнюдь нет! Все это уже
было в истории человечества - в эпоху тираний, рабовладения, да и недавно
совсем - во времена средневековья, инквизиции, религиозных войн...
Видимо, в этом все и дело. Это было недавно. Память еще жива. Пример
и назидание. Прошлое не повторяется. Прошлое миновало навсегда. Прошлое
понято, все дурное в нем сурово осуждено - раз и навсегда. Грядет новое
время, новый страшный мир - все новое в этом мире будет страшно и все
страшное - ново!
Оказалось - нет. Страшное оказалось неописуемо страшным, а
вот новое оказалось не таким уж и новым. Просто, как и в добрые старые
времена варварства и невежества, все население опять разделилось на
дураков и подлецов.
Дураки, как и встарь, не понимали, что с ними происходит, и дружно
кричали, когда требовалось: Ура! Хайль! Банзай!
Огня! Еще огня! Со всех сторон их убеждали, что они самые
лучшие, самые честные, самые прогрессивные, самые умные, и они верили в
это и были счастливы тем особенным счастьем, которое способны испытывать
именно и только дураки, когда им кажется, что они наконец попали на правую
сторону.
Подлецы... На самом деле в большинстве своем они были вовсе и не
подлецы никакие, а просто люди поумнее прочих или те, кому не повезло, и
они поняли, в каком мире довелось им очнуться. Мы называем их этим поганым
словом потому только, что самые честные из них и беспощадные к себе
называли себя именно так. Разве же это не подлость (говорили они) - все
знать, все понимать, видеть пропасть, в которую катится страна, мир, и -
молчать в общем хоре или даже иногда раскрывать (беззвучно) рот, дабы не
уличили тебя во внутреннем эмигранстве?..
Были, разумеется, и святые ("Разве мы не люди?"). Из подлецов не было
дороги в дураки, нет такой дороги у человека. Была дорога в палачи и была
дорога в святые. Святых было меньше. Несравненно меньше.
"Разве мы не люди?" Это - Герберт Джордж Уэллс. Самый замечательный
писатель среди фантастов, самый блистательный фантаст среди писателей.
"Не ходить на четвереньках - это Закон. Разве мы не люди?
Не лакать воду языком - это Закон. Разве мы не люди?
Не охотиться за другими людьми - это Закон. Разве мы не люди?
А тот, кто нарушает Закон, возвращается в Дом Страдания!.."
Страшный седой доктор Моро тщился с помощью окровавленного скальпеля
превратить животное в человека, погрузив в горнило невыносимых страданий.
Какая странная идея! И какая знакомая!
"Остров доктора Моро" был опубликован в 1896 году, а в двадцатом веке
в нескольких странах разом была предпринята грандиозная попытка превратить
в навоз целые народы и вырастить на этом навозе Нового человека, пропустив
его предварительно через горнило страданий.
И горели над целыми странами разнокалиберные заклинания:
Труд есть дело чести, дело доблести и геройства! (Разве мы не люди?)
Arbeit macht frei! (Разве мы не люди?)
Хакко-итиу! Восемь углов Вселенной - одна крыша! (Мы люди из людей).
Наша цель - коммунизм!
Из-под скальпеля Моро выходили: гиено-свинья, леопардо-человек,
человеко-пес... Дрессировщики двадцатого века создавали монстров духа,
целые поколения нравственных хамелеонов, они мучили и увечили людей, как
подопытных животных, тщась сделать их счастливыми... Новый человек не
спешил появляться. С плакатов и ярких лакированных картин он смотрел на
это стадо химер - голубоглазый, белокурый, могучий, уверенный в себе и в
ослепительном будущем, где людей не будет, будут Новые Человеки, и время
наконец "прекратит течение свое".
Вряд ли Уэллс хотел что-то предсказать своим ранним романом. Скорее,
он хотел выразить свой страх перед реальностью и ужасные предчувствия
свои. А получилось Прорицание - самого высокого уровня достоверности,
самого глубокого проникновения в суть вещей и событий.
Авторы антиутопий начала XX века ошибались прежде всего потому, что
боялись главным образом потери свободы - свободы мысли, свободы выбора,
свободы духа. Им казалось, что это самое страшное - потерять свободу мысли
и свободу распоряжаться собою.
Выяснилось, однако, что никого, кроме них, это не пугает.
Выяснилось, что массовый человек не боится потерять свободу, он
боится ее обрести.
Выяснилось, что "век пара и электричества, век просвещения и свободы"
не уничтожил феодализма, он даже не ослабил и не обескровил его. Феодализм
выстоял и в двадцатом веке дал последний арьергардный бой, тем более
жестокий, что на вооружение оказались взяты и пар, и электричество, и все
прочие плоды века просвещения.
Нас учили, что фашизм был реакцией монополистического капитала на
Октябрьскую революцию. Ничего подобного. Все известные нам тоталитарные
режимы, включая немецкий фашизм и казарменный социализм, были последней
отчаянной попыткой феодализма отстоять свои позиции, отбросить
надвинувшийся капитализм, уничтожить его там, где он не успел еще
окрепнуть, вернуть старые добрые времена патернализма, когда над каждым
холопом стоит свой барин-отец, а над всеми - батюшка-царь. И непременная
конюшня, где секут до изнеможения. За дело, конечно...
Случайно ли наиболее жестокие тоталитарные режимы возникли именно в
тех странах, где свежи еще были воспоминания о монархии? Где ненависть к
капитализму - с его беспощадной рациональностью, с его равнодушием ко
всему, кроме прибыли, с его ужасающими кризисами - была особенно сильна?
Ведь феодальные отношения складывались веками. На протяжении многих
десятков поколений были холопы, и у каждого холопа был барин, и каждый
барин, в свою очередь, тоже был чьим-то холопом (в том или ином смысле), и
была не только пирамида последовательного ограбления, но и пирамида
покровительства и ответственности выше стоящего за стоящего ниже...
Человеческое сообщество нашло - как всегда, методом проб и ошибок,
жестоких проб и кровавых ошибок - некое устойчивое состояние,
соответствующее и уровню производительных сил, и массовой психологии
миллионов, и это состояние оказалось в высшей степени устойчивым! Каждый
отдавал - добровольно! - огромный кусок своей свободы в обмен на
небольшой, но верный кусок хлеба и некоторую уверенность в завтрашнем дне.
Такова была еще совсем недавно цена того, что сейчас мы называем
социальной защищенностью.
Правда, когда кусок хлеба становился слишком уж мал или исчезала
уверенность в завтрашнем дне (кровавый кретинизм суверенов, чрезмерно
затянувшиеся войны, проигранные войны, чума), равновесие нарушалось, и
чудовищные по жестокости бунты сотрясали целые страны, но это лишь
кровавые минуты истории, а на протяжении многих и многих
часов пирамида общественного устройства стояла неколебимо, ибо в
сущности много ли человеку надо? Ежедневный ломоть хлеба да какая-нибудь
уверенность в завтрашнем дне. Ранний капитализм эту устоявшуюся систему
отношений разрушал без всякой пощады и вышвыривал вчерашнего раба на
улицу, давая ему полную свободу действий и лишая его при этом каких-либо
гарантий. Это было страшно. Это было непостижимо. Это невозможно было
вынести!
И вчерашний раб восстал.
Назад! Назад, в крепостное рабство, в теплый вонючий закуток -
прижаться к барскому сапогу, барин суров, но милостив, он выпорет на
конюшне, он отберет все, что ты заработал, но если ты не заработал ничего,
он же и не даст тебе сдохнуть с голоду в этом жестоком равнодушном мире,
где правят теперь потерявшие человеческий облик и самое веру в Бога
жестокие и равнодушные дельцы.
Барский сапог не замедлил объявиться. В разных странах явление его
сопровождалось процессами не всегда сходными, и речи обладателя сапога
звучали не одинаково в Германии, скажем, или в России. Однако потерявшие
человеческий облик и веру в Бога дельцы были взяты к ногтю повсюду и все -
будь они разжиревшие на народных страданиях помещики и капиталисты или
продавшие родину еврействующие плутократы. Социальная защищенность была
обещана и обеспечена, патернализм восстановлен... Но какою ценой!..
(Замечательно, что в странах победившего капитализма вопрос о
социальной защищенности тоже стоял и тоже решался отнюдь не бескровно,
однако, там обошлось все-таки без барского сапога и без тотального насилия
над целыми народами).
Двадцатый век оказался отнюдь не веком социалистических революций. Он
оказался веком последних арьергардных боев феодализма, тщетно пытающегося
сочетать несочетаемое: массовую технологию завтрашнего дня и массовую
психологию дня вчерашнего.
Чтобы предугадать будущее, надлежит прежде всего основательно
разобраться в прошлом. Святые слова! И такие бесполезные...
Ведь нельзя сказать, что девятнадцатый век не умел разобраться в
своем прошлом. И ведь нельзя же сказать, что девятнадцатый век так уж
совсем был не готов к инфернальным перипетиям двадцатого, что не было
людей, основательно разобравшихся и в прошлом человечества и в его
настоящем. О том, что нас ожидает, предупреждали: Прудон, Спенсер, Ле Бон,
де Лавелей, Молинари... Достоевский писал своих "Бесов". В ранних (именно
ранних, еще до "Коммунистического манифеста") произведениях Маркс и
Энгельс предсказали все кошмары "переходного периода" вплоть (чуть ли не)
до концлагерей...
Все оказалось втуне.
Воистину: умный знает историю, глупый - ее творит. Это так грустно!
Но наверное, именно поэтому нельзя предсказать будущее, - его можно разве
что предчувствовать.
У нас нет дурных предчувствий. На дворе истекает девяностый, тускло,
сумрачно. Ленсовет никак не может договориться с Собчаком, Ельцин - с
Горбачевым, пришла зима - очень, может быть, голодная и холодная... И
все-таки, нет у нас предчувствия ни гражданской войны, ни подлинного
хаоса, ни семи казней египетских.
Это само по себе удивительно, если трезво представить хоть на минуту:
какая страна досталась нам в наследство после семидесятилетнего свирепого
хозяйничанья феодализма, оснастившего себя коммунистической идеологией;
какие монстры - без чести, без ума, без совести - продолжают удерживаться
у власти на огромных просторах Шестой Части Суши; насколько народ - весь,
от последнего полупьяного бомжа до лощеного преуспевающего профессора ИМЛ,
- развращен идеей служения вместо работы ("не тот у нас трудится
хорошо, кто приносит пользу людям, а тот, кем довольно начальство!").
И тем не менее... И тем не менее, почти неуправляемый оптимизм
буйствует в воображении и берет верх. Может быть, тому причиной -
радостное изумление от того, что так немало оказалось замечательных людей
у нас, не раздавленных, не проигравших, не давших себя ни купить, ни
запугать, ни оболванить вконец... не давших себя превратить!..
А может быть, истоки нашего необъяснимого оптимизма в том, что
невозможно представить себе сейчас действительно решительный поворот
вспять? Военная диктатура... заткнуть всем крикунам глотки... взять к
ногтю, загнать в колонны, поставить по стойке смирно... Можно! Все это
сделать можно, можно даже восстановить ГУЛАГ во всей его красе, но
толку-то что? Магазинные полки останутся пусты, технологии останутся на
пещерном уровне, процесс превращения в третьеразрядную державу нисколько
не замедлится... Как заставить работать холопа XX века?! Руку
рубить за невыполнение плана? Несколько возрастет число одноруких
инвалидов, чудовищно, неописуемо возрастет количество вранья в
статистических отчетах, и... и - все. Пройдет два-три года, ну - пять лет,
и все надо будет начинать сначала: перестройка... гласность...
демократия... "У перестройки нет альтернативы".
Будущее наше зависит сейчас в первую очередь от того, в какой степени
удалось нам победить феодализм в нашем сознании, проклятый наш страх
свободы, рабскую нашу приверженность холопству, служению вместо работы.
Новые общественные формации прорастают внутри старых, разрывая их и
взламывая, как слабые зеленые росточки разрывают и взламывают
напластования глины и асфальта. Процесс этот не знает ни жалости, ни
пощады, ни милосердия. Человечество, творя историю свою, бредет по дороге,
заваленной трупами, по колено в крови и дряни. Так неужели же мы пролили
еще недостаточно крови и недостаточно удобрили телами нашими почву для
нового?.. Ведь это новое не так уж и ново - полмира уже проросло
корабельным лесом новой формации.
Нет. Дороги вспять история не знает, что бы ни говорили
профессиональные пессимисты.
...Громада двинулась и рассекает волны.
Тридцать лет назад всем и все было ясно...
Мы говорим здесь о поколении "детей Октября". Годы рождения
1920-1940. Разумеется, только о тех, кому повезло пережить войну и кто
получил соответствующую идейную закалку в школе, в комсомоле, в институте.
Мы не говорим о тех, кто понимал. Их было не так уж и мало, но они
составляли подавляющее, безнадежно раздавленное меньшинство.
Тридцать лет назад всем и все было ясно. Впереди (причем сравнительно
недалеко) нас ждал коммунизм. Каждый понимал его в меру своих возможностей
и способностей (один наш знакомый маркер говаривал: "При коммунизме лузы
будут - во!" и показывал двумя руками, какие замечательно огромные будут
при коммунизме лузы). Однако всем и каждому было совершенно ясно, что
коммунизм неизбежен - это было светлое будущее всего человечества, мы
должны были прибыть туда (как на поезде - из пункта А в пункт В) первыми,
а за нами уже и весь прочий (полусгнивший) западный мир. Как сказал бы
герой Фейхтвангера, - Бог был в Москве.
Пятнадцать лет назад каждому (мыслящему) индивидууму сделалось
очевидно, что никакого светлого будущего - по крайней мере в
сколько-нибудь обозримые сроки - не предвидится. Весь мир сидит в гниющей
зловонной яме. Ничего человечеству не светит - ни у них, ни у нас.
Единственная существующая теория перехода к Обществу Справедливости
оказалась никуда не годной, а никакой другой теории на социологических
горизонтах не усматривается. Бог в Москве умер, а там, "у них", его
никогда и не было...
И вот сегодня мы, испытывая некоторую даже оторопь, обнаруживаем, что
живем в глухой провинции. Оказывается, Бог-таки есть, но не в Москве, а,
скажем, в Стокгольме или, скажем, в Лос-Анжелесе - румяный, крепкий,
спортивный, энергичный, несколько простоватый на наш вкус, несколько
"моветон", но без всякого сомнения динамичный, без каких-либо следов
декаданса и, тем более, загнивания, вполне перспективный Бог, а мы,
оказывается, - провинция, бедные родственники, и будущее, оказывается,
есть как раз "у них", не совсем понятно, какое, загадочное, туманное, даже
неопределенное, но именно у них, а у нас - в лучшем случае - в будущем
только они - румяные, спортивные, несколько простоватые, но вполне
динамичные и перспективные...
Семьдесят лет мы беззаветно вели сражение за будущее и - проиграли
его. Поэт сказал по этому поводу:
Однако же коммунизм - это ведь общественный строй, при котором
свобода каждого есть непременное условие свободы всех, когда каждый волен
заниматься любимым делом, существовать безбедно, занимаясь любимым и любым
делом при единственном ограничении - не причинять своей деятельностью
вреда кому бы то ни было.
Да способен ли демократически мыслящий, нравственный и порядочный
человек представить себе мир более справедливый и желанный, чем этот?
Можно ли представить себе цель более благородную, достойную, благодарную?
Не знаю. Мы - не можем.
В этом мире каждый найдет себе достойное место.
В этом мире каждый найдет себе достойное дело.
В этом мире не будет ничего важнее, чем создать условия, при которых
каждый может найти себе достойное место и достойное дело. Это будет
мир справедливости: каждому - любимое дело и каждому -
по делам его.
Об этом мире люди мечтают с незапамятных времен. И Маркс с Энгельсом
мечтали о нем же. Они только ошиблись в средствах: они вообразили, что
построить этот мир можно, только лишь уничтожив частную собственность.
Ошибка, надо признаться, вполне простительная по тем временам, если
вспомнить, сколько яростных филиппик в адрес частной собственности
произнесено было на протяжении веков. И если вспомнить, каким ореолом
святости на протяжении веков окружена была идея раздать свое имущество
бедным и уйти к Богу...
Маркс с Энгельсом, стремясь к замечательной цели, ошиблись в
средствах. Эта ошибка носила чисто теоретический характер, но те практики,
которые устремились ко все той же цели вслед за классиками,
продемонстрировали такие методы, что теперь и сама цель смотрится не
привлекательнее городской бойни. А новой цели пока никто еще не
предложил...
Куда ж нам плыть?..
Неужели все чудеса будущего отныне свелись для нас к витрине
колбасного универмага? Колбаса - это прекрасно, но есть что-то бесконечно
убогое в том, чтобы считать ее стратегической целью общества. Даже такого
запущенного и убогого, как наше. Ведь из самых общих соображений ясно, что
колбасное изобилие не может быть венцом исторического процесса. Венцом
должно быть нечто другое. Вообще - венцом истории не может считаться то,
что уже существует сегодня... Надо полагать все-таки, что впереди нас ждет
что-то еще, кроме колбасного изобилия. Так что же?
"Не надо в грядущее взор погружать" - там нет ничего, кроме
всесильной подлости, подлого всесилия и - смерти, которая ставит точку
всему и всем...
Это, положим, так, но
Потому что Будущее - это Страна Несбывающихся Снов.
Потому что Будущее - это Страна Заговоренных Демонов. Страна, в
которой слабые становятся честными, злые - веселыми, а умные - молодыми...
Три вопроса занимают и мучают последнее время, и с ними мы пристаем
ко всем встречным и поперечным.
Почему началась Перестройка? Как случилось, что в ситуации
абсолютного равновесия, когда верхи могли бы изменить ход истории, но
совершенно не нуждались в этом, а низы - нуждались, но не могли, как
случилось, что в этой ситуации верхи решились сдвинуть камень, положивший
начало лавине?
Почему все-таки невозможно общество, лишенное свободы слова с одной
стороны, но вполне материально изобильное - с другой? Почему все-таки
"свобода и демократия рано или поздно превращаются в колбасу", а
тоталитаризм - в нищету и материальное убожество?
И наконец - куда ж нам плыть?..
Все три эти вопроса теснейшим образом переплетены и представляются
нам актуальнейшими. Ответов мы не знаем. Во всяком случае, мы не знаем
ответов, которые удовлетворили бы нас самих...
Две трети жизни мы думаем о будущем - сначала восторженно описывали
то, что стояло перед мысленным взором, потом пытались его вычислять,
теперь уповаем на предчувствие...
Опыт великих предшественников то приводит в отчаяние, то обнадеживает
самым решительным образом.
"Если бы нам указывали из Вашингтона, когда сеять и когда жать, мы бы
вскоре остались без хлеба". Томас Джефферсон (1743-1826). Президент США в
период с 1801 по 1809 год.
Один из нас вычитал это в сборнике "Афоризмы", который
издательство "Прогресс" выпустило в 1966 году.
Такие дела.
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Все, все, что гибелью грозит,
А может быть, с помощью романов-предостережений мы заклинаем наше
будущее, чтобы оно минуло нас, заклинаем катаклизмы, чтобы они не
состоялись, - дикари двадцать первого века! - называем зло, чтобы
отпугнуть его?..
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!
Плывет. Куда ж нам плыть?..
Мы в очереди первые стояли,
Идея коммунизма не только претерпевает кризис, она попросту рухнула в
общественном сознании. Само слово сделалось срамным - не только за
рубежом, там это произошло уже давно, но и внутри страны, оно уходит из
научных трудов, оно исчезает из политических программ, оно переселилось в
анекдоты.
А те, кто после нас, - уже едят...
Кто знает, что ждет нас?
Гийом Аполлинер. Больной, желчный, несчастный, он не ждал от будущего
ничего хорошего и был, безусловно, прав. Он умирал, а толпа патриотов под
его окнами ревела: "Guillaume - D'bas!", и в смертельном бреду ему
казалось, что они требуют: "Долой Гийома!", хотя ревели они: "Долой
Вильгельма!" - начиналась первая мировая, первая из феодальных войн XX
века...
Кто знает, что будет?
И сильный будет,
И подлый будет.
И смерть придет,
И на смерть осудит.
Не надо
В грядущее взор погружать...
...любопытно, черт возьми,
И всегда было любопытно. И всегда будет.
Что будет после нас с людьми?
Что станется потом?..
|
© "Русская фантастика", 1998-2001
© Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, текст, 1991 © Дмитрий Ватолин, дизайн, 1998-2000 © Алексей Андреев, графика, 1999 |
Редактор: Владимир Борисов
Верстка: Александр Усов Корректор: Борис Швидлер |