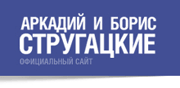
> Карта страницы
Поиск
> Творчество:
Книги
Переводы
Аудио
Суета
> Публицистика:
Off-line интервью
Публицистика АБС
Критика
Группа "Людены"
Конкурсы
ВЕБ-форум
Гостевая книга
> Видеоряд:
Фотографии
Иллюстрации
Обложки
Экранизации
> Справочник:
Жизнь и творчество
Аркадий Стругацкий
Борис Стругацкий
АБС-Метамир
Библиография
АБС в Интернете
Голосования
Большое спасибо
Награды
 | ||
| ||
|
БОРИС СТРУГАЦКИЙ И АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ
БЕСЕДУЮТ С САМУИЛОМ
ЛУРЬЕ (1992 г.)
Самуил Лурье: – Мои собеседники – хозяин квартиры, Борис Стругацкий, и Александр Житинский, тоже чрезвычайно известный, популярный и талантливый автор. Между ними есть возрастная разница, может быть, даже в целое литературное поколение. Между ними много общего. Когда я продумывал, о чём буду говорить с обоими, оказалось, что общего гораздо больше, чем различий. И, в частности, их объединяет уникальный опыт, не известный, наверное, ни почти всем писателям прошлого, ни современным писателям, живущим за пределами бывшего Советского Союза, ни абсолютному большинству писателей, живущих в пределах Советского Союза. Есть такое необычайно сильное испытание для литератора, требующее всех его сил, которое называется по-русски «писать в стол». Это значит – сочинять произведение, не имея никакой надежды на его опубликование, совсем никакой, предполагая, что в своей жизни никогда не увидишь его набранным печатными буквами. Это очень трудно понять постороннему человеку. Это очень трудно понять тому, кто не проделал над собой этот мучительный эксперимент. Вероятно, он мучителен пропорционально дарованию автора, и сила этого мучения возрастает пропорционально важности замысла. Кто бы мы ни были: писатели, простые люди, журналисты, кто угодно, – когда мы представляем себе, что нам нужно потратить несколько лет жизни на работу, результатов которой никто не узнает, на работу, которая нам представляется очень важной, и важной именно для того, чтобы о ней кто-нибудь узнал, мы можем на одно только мгновение войти в этот уникальный страшный опыт. И вот у нас сейчас есть счастливая возможность спросить этих людей, что это значит. Что движет писателем, который пишет книгу, – может быть, свою главную книгу (может быть, каждая книга является для писателя главной) без всякой надежды? Этот вопрос, как и остальные, я хочу задать обоим моим собеседникам, а они будут отвечать, как захотят. По очереди, или вперебивку.
Борис Стругацкий: – Ну что, начинай, Саша.
Александр Житинский: – Борис Натаныч, «Град обречённый» написан в какие годы?
Борис Стругацкий: – «Град обреченный» задуман был в шестьдесят восьмом году и писался до семьдесят четвёртого года включительно, когда мы поставили точку в черновике этого романа. Поскольку Саня Лурье затронул очень интересный вопрос о писании в стол, я скажу несколько слов об истории этого романа, потому что она по-своему авантюрно-детективная. Дело в том, что задуман этот роман был в той же плоскости, в которой мы писали большинство наших вещей. У нас был принцип, очень простой. Писать надо таким образом, чтобы у советского редактора, читающего рукопись, с одной стороны, волосы вставали дыбом, но, с другой стороны, не возникло желания немедленно побежать в «Большой дом» и отнести рукопись туда, как это случилось с рукописью, например, Гроссмана.
Пока мы писали «Град обреченный», мы прошли через несколько стадий. Сначала это был роман, который мы собирались отдать в редакцию. Мы понимали, что его не напечатают, как и некоторые романы, написанные нами до тех пор, «Улитка на склоне», «Сказка о Тройке», скажем. Мы понимали, что печатать его не будут, что редактор будет говорить: «Ребята, поймите меня правильно, не то время, давайте подождём, давайте отложим». Но перед нами всегда был открыт путь носить эту рукопись из редакции в редакцию, от редактора к редактору, из издательства в издательство. И мы прекрасно понимали, что при этом происходит какой-то таинственный процесс распочковывания и размножения этой рукописи, и вдруг этих рукописей уже не три экземпляра, а тридцать три, сто, и они начинают ходить на внутреннем рынке.
Самуил Лурье: – И их уже изымают при обысках.
Борис Стругацкий: – Да. И их уже, к сожалению, изымают при обысках. То есть происходит некое псевдо-опубликование романа, без которого писатель не может представить себе своего существования. Но к тому моменту, когда мы поставили точку в черновике в семьдесят четвёртом году, в том самом году, как вы, может быть, Саня, помните, начал готовиться известный процесс Марамзина, Эткинда, Хейфеца.
Самуил Лурье: – Да.
Борис Стругацкий: – И когда меня, как ленинградца, и близкого приятеля Хейфеца...
Самуил Лурье: – ...уже таскали в «Большой дом»...
Борис Стругацкий: – ...начали таскать в «Большой дом», в этот момент мы поняли, что ситуация изменилась кардинальным образом. И что наш план реализовать опасно, судьба гроссмановского романа нам была уже известна. Поэтому летом семьдесят четвёртого мы кончили, на протяжении конца семьдесят четвёртого – начала семьдесят пятого мы быстро сделали чистовик этого романа, размножили его в трёх экземплярах...
Самуил Лурье: – И спрятали в сейф.
Борис Стругацкий: – И спрятали... у своих друзей. Мы были хитры, мы были мудры как змии! Мы не отдали эти романы тем людям, о которых любому гэбэшнику было известно, что это близкий друг Стругацких, нет. Мы отдали эти романы людям, которым мы абсолютно доверяли, но которые не могли по разным чисто бытовым причинам числиться нашими близкими друзьями. Мы надеялись таким образом обмануть ГБ. Я не думаю, чтобы...
Самуил Лурье: – И обманули?
Борис Стругацкий: – Я не думаю, чтобы ГБ когда-то искала этот роман... Но тайну его сохранить удалось, вот что меня поражает больше всего! Так до самого восемьдесят пятого – восемьдесят шестого года и ходила по кругам интеллигенции легенда о том, что Стругацкие пишут некий роман, который всё никак не могут закончить. Это легенду мы с Аркадием Натанычем старательно распространяли среди своих знакомых. Вот какова была история этой книжки.
Самуил Лурье: – Историю я понимаю, я хочу только сделать одну поправку. Когда вы говорите, что писали так, чтобы редактор ужаснулся, но не настолько, чтобы побежать в госбезопасность, я считаю, что вы писали так, чтобы редактор ужаснулся настолько, чтобы не побежать в госбезопасность. Были ведь и случаи (даже мне такой известен), когда человек, написавший донос на ваш роман «Обитаемый остров», сам получил нахлобучку и выволочку, потому что он прочитал его. Само прочтение, правильное прочтение этого романа выглядело жёсткой критикой строя.
Борис Стругацкий: – Но этот человек не был редактором. Что важно. Никакой советский редактор не позволил бы себе попасться в такую дешёвую ловушку.
Самуил Лурье: – Это правда. Но вы не ответили на главный вопрос.
Борис Стругацкий: – Да, я теперь, рассказав эту маленькую полудетективную историю, попытаюсь ответить на ваш вопрос, и это на самом деле далеко не просто. Я могу сказать, исходя из собственного опыта многолетнего, что писать «в стол» необычайно трудно. Вы сами об этом сказали, и совершенно справедливо. Но почему это трудно? На какие психологические свойства писателя опирается эта трудность, мне сказать чрезвычайно трудно. Я могу только предположить, что каждый автор, любой, в любом жанре, наверное, во всех видах искусства вообще, испытывает потребность (будем называть это потребностью) в опубликовании. Это – изначальное, аксиоматическое свойство каждого, выражаясь высокими словами, творца. Всякого. Нельзя себе представить творца, который не хотел бы опубликования результатов своих трудов.
Самуил Лурье: – То есть художественный дар, так же, как и половой инстинкт, если угодно, требует контакта?
Борис Стругацкий: – Не совсем удачно... Если говорить о половом инстинкте, то это что-то вроде одуванчика, который желает рассыпать всё это по возможно большому пространству. Осыпать свои семена не здесь, у подножья, а по огромному полю обязательно – если говорить о половом инстинкте. Вы понимаете, я уже довольно давно пришёл к выводу, что писатель – это не тот, кто пишет, а тот, кого читают. И когда человек, когда писатель понимает это, когда он понимает, что он не существует объективно и независимо, а лишь постольку, поскольку нашёл отражение в потребителях, будем называть это так...
Самуил Лурье: – Можно сказать, что он создаёт свою половину текста, а другую половину создаёт читатель, каждый раз. Есть, во всяком случае, такая теория в эстетике.
Борис Стругацкий: – Ну, не совсем я бы так сказал. Текст он создаёт сам. Но впечатление от текста создается двумя людьми. Автором и читателем.
Самуил Лурье: – Да, да. Некий метатекст получается...
Александр Житинский: – Образ книги он создаёт, половину образа книги.
Борис Стругацкий: – Да. Тут вы совершенно правы. Вы понимаете, это старый спор. Существует «Явление Христа народу» объективно, независимо от существования человечества? Нет, не существует. Эта картина существует лишь постольку, поскольку есть зрители.
Самуил Лурье: – Вы имеете в виду картину художника Иванова?
Борис Стругацкий: – Да, совершенно верно. Только потому она существует, что существуют зрители. Нет зрителей – нет картины. Можно убить всех людей, не трогая картины, и картина как бы исчезнет из мира. Понимаете? Вот нечто, видимо, подобное происходит и с творцом, <который> даже иногда не <осознаёт всю эту> теорию, которую я сейчас построил (я построил её не потому, что сейчас придумал, а потому, что мне много приходилось на эту тему думать). Но любой автор, не понимая даже этого, всё-таки ощущает страшное неудобство при одной только мысли, что вот я пишу рассказ, я страдаю над ним, мучаюсь, я создаю его, а он всё равно находится в зоне информационной невидимости, как выразился один молодой писатель-фантаст. Информационная невидимка – моё произведение до тех пор, пока оно не стало достоянием людей.
Самуил Лурье: – Да, это я понимаю. Писателем владеет мучительная жажда быть услышанным и понятым, и вы замечательно рассказали о том, как это трудно, писать «в стол». Но мой вопрос был (может быть, Саша начнёт на него отвечать): что движет человеком, который зачем-то преодолевает эту мучительную трудность? Ведь это, наверное, тяжелее всего, трудно себе представить состояние более тяжёлое. И всё-таки вас что-то заставляло это делать. Что?
Я имею в виду ваш роман «Потерянный дом» и ваш роман «Град обреченный», хотя у каждого из вас есть и другие книги, которые вы тоже писали «в стол», практически не надеясь, что они будут опубликованы. Я имею в виду конкретно вот эти книги.
Александр Житинский: – Ну, первая причина для меня была, я думаю, творческая. Мне хотелось попробовать написать нечто, чего я ещё никогда не пробовал писать и по жанру, и по объёму. То есть, некоторая задача, которая внутренне почему-то встала передо мной.
Самуил Лурье: – Мечта молодого писателя – написать роман. Толстый роман, в толстой обложке.
Александр Житинский: – Да, когда-то я так начинал писать прозу, когда я писал стихи... и задача была написать прозаическое произведение не на пять страниц, не на десять, а, скажем, на двести.
Самуил Лурье: – Казалось, что вот это уже по-настоящему.
Александр Житинский: – И тогда я написал «Лестницу», повесть, которая долго лежала в столе. Я её написал и, преодолев, выполнив эту задачу для себя, ну, может быть не на сто процентов, а на семьдесят... Не знаю, никогда не достигаешь абсолюта. Я был доволен. Замысел этого романа родился почти сразу после «Лестницы», и я его откладывал до семьдесят девятого года, когда всё-таки решил, что так можно откладывать бесконечно и стал его писать. К этому времени я уже как-то зарабатывал литературным трудом. Я писал сценарии. В основном заработок давали киносценарии; книги, проза, стихи никогда его не давали по-настоящему, потому что переизданий не было и публиковался <я> с трудом. Но роман я начал писать. Конечно, отвлекался на какие-то другие дела, и <писал> семь лет или шесть. Да, он был закончен в восемьдесят пятом году. Мне просто повезло, что в восемьдесят пятом году у нас начались какие-то перемены, хотя в восемьдесят пятом, когда он был закончен, это были скорее декларации. И двигало меня, Борис Натанович правильно...
Самуил Лурье: – Извините, я вас перебью, но вы же точно знали, что это не будет опубликовано. Я это знаю от наших общих друзей, да вы и сами мне это говорили. Вы писали его, вы читали куски своим друзьям... и у вас навертывались на глаза слёзы от того, что вы так хорошо написали некоторые страницы, и никто этого не узнает.
Александр Житинский: – Ну... Когда я начал, и увидел, как оно потекло, и мне нравилось, как оно пошло, как пошёл сюжет, какая была интонация, я понял, что это уже обречено. Хотя не было никакой политики, дело не в политике, дело в том, насколько свободен писатель.
Самуил Лурье: – Да, мы ещё поговорим об этом.
Александр Житинский: – Да. И я стал позволять лишь на своих выступлениях перед читателями читать какие-то куски, наслаждаться тишиной в зале и тем, как осторожно после этого люди уходят, кидая на меня такие соболезнующие взгляды...
Самуил Лурье: – Но восхищённые.
Александр Житинский: – Да, часто и восхищённые. И, да, это было достаточным стимулом, я понимал, что это действует. Ну и, конечно, может быть, какие-то туманные отдалённые надежды, выраженные в знаменитой булгаковской фразе «рукописи не горят».
Борис Стругацкий: – Простите, несколько слов добавлю к словам Саши, моего дорогого и любимого, которого я знаю вот с той самой повести «Лестница», которую вы упомянули. Я её прочитал, я помню, в Комарове, под одеялом, и наслаждался этой вещью. Я вот что хочу добавить, всё-таки пытаясь ответить на ваш вопрос.
У меня такое впечатление создаётся, что писать «в стол» автора заставляет по сути дела то же внутреннее глубоко сидящее чувство, которое заставляет его писать вообще. Когда я пишу не «в стол», я думаю: о гонораре, о том, что на гонорар я смогу купить новую мебель, поехать там куда-нибудь, я думаю о славе. Я уверен, что практически всякий писатель думает о том, что... Я думаю о том, что я пишу так, как никто до меня не писал, вот то, что Саша сказал, это чрезвычайно важно. Мы все наши вещи писали по этому принципу. Написать так, как до сих пор не писали сами и по возможности – никто до нас. Но если вот всё это отобрать... Поскольку, когда ты пишешь «в стол», всё это отпадает, всё, за исключением, может быть, мысли о том, что ты пишешь нечто такое, чего не писал раньше. Вот тогда и останется то самое обнажённое, тот проводок, нервик, который и побуждает писателя писать. Вы же не задаёте, Саня, вопрос, почему писатель вообще пишет? Вы, великий литературовед, прекрасно понимаете, что писатель пишет не для того, чтобы получить гонорар, и не для того, чтобы прославиться. Что-то есть внутри. Так вот этот вот червячочек, вот он и заставляет писать, в частности, «в стол».
Самуил Лурье: – Я это прекрасно понимаю, и мне кажется... из этого же следует, между прочим, по логике даже, что именно таким способом, как это ни горестно, ни парадоксально и ни ужасно, но именно таким способом в тоталитарных государствах под чудовищным давлением в условиях опасности и безнадёжности, зарождается настоящая литература.
Борис Стругацкий: – Совершенно верно. Всё верно, кроме слова «настоящая». Настоящая литература рождается везде, при любых условиях. Жирными писателями, тощими писателями, мучающимися людьми, довольными людьми... «Бог знает из какого сора». Нет. Но литература, – то что, вообще говоря, имеет право называться литературой, – особенно хорошо рождается, когда писателя придавят.
Самуил Лурье: – И я скажу почему. Мне кажется, это потому (и Саша Житинский об этом одним словом сказал), что, когда мы знали, что это не может быть опубликовано, то дело было не в том, что здесь потрясаются основы нашего политического строя, хотя бы они даже и потрясались. Это нельзя было печатать потому, что это написано свободно. Вот эти два произведения, скажем, являются и являлись, и будут всегда являться, островками некоторой свободы. Если угодно, её кусками. Обрамлёнными, запечатлёнными в текст, неизвестно ещё, обставленными ли обложкой. Вы, каждый по-своему, пиша эти книги, в этот момент были свободными, вы создавали свободу, и именно ощущение свободы мучило и пугало редактора. Это нельзя было напечатать, потому что это были фрагменты свободы в абсолютно несвободном мире. Вот и мне кажется, что один из самых главных признаков всё-таки настоящей литературы... Действительно, вы правы, она создаётся где угодно, но она создаётся при том условии, что писатель свободен. Если ему для того, чтобы быть свободным, необходимо сидеть в это время в тюрьме, значит, настоящая литература создаётся в тюрьме, и мы знаем такие примеры.
Борис Стругацкий: – Да... Да, это так. Я бы вот хотел немножечко уточнить. Когда вы говорите о свободе, это всё совершенно правильно, хотя полной свободы в этих романах нет. Я ведь сказал: редактор должен испугаться, но не должен побежать в органы. Я бы сказал так, что в этих романах авторы говорят только то, что они думают, но не всё, что они думают. Вот в чём разница.
Самуил Лурье: – Из этого мы заключаем, что свобода и надежда – вещи не совсем совместные. Хотя бы оттенок надежды несколько ограничивает свободу автора. Но это по ходу дела.
Борис Стругацкий: – Надежда ли?
Самуил Лурье: – И ещё я хочу заметить по поводу слов Саши Житинского. Он неосторожно сказал (и нас может не понять зритель): «Рукопись повести „Лестница” лежала в столе». Можно так подумать, что Житинский, подобно Гоголю, написав повесть «Лестница», положил её в стол и стал ждать, пока она отлежится и сделается ещё лучше. Нет! Она же лежала не у вас в столе, она лежала в столах редакторов, она лежала под подушками ваших друзей. То есть она как бы бродила, она как бы существовала и дарила людям... Она переходила, как некоторый квант, сгусток такой вот свободы, она так ходила от человека к человеку.
Александр Житинский: – Да. Самое удивительное, что я буквально этим летом в Швеции убедился, что это было именно так. Я нашёл этому документальное подтверждение. В доме одного моего шведского друга я обнаружил несколько русских книг, и среди них была книга Мальцева «Вольная русская литература». Я её никогда не видел.
Самуил Лурье: – Я тоже.
Александр Житинский: – Обзор «Вольная русская литература» с пятьдесят пятого по семьдесят пятый год. И там, в именном указателе авторов, которые обозреваются, я нашёл фамилию Жилинский. Меня это заинтересовало, я открыл рукопись на этой странице. И я увидел, что он пересказывает роман, абсурдный роман некоего Жилинского, ходящий в самиздате под названием «Лестница».
Самуил Лурье: – Могла быть опечатка.
Борис Стругацкий: – Да, опечатка в рукописи.
Александр Житинский: – То есть, видимо, он читал это. Может быть, он забыл имя, перепутал фамилию, но он довольно правильно излагает сюжет. Наряду с разными авторами: Амальриком, с Солженицыным и прочими... Короче говоря, она попала туда. Я не знал об этом упоминании.
Самуил Лурье: – Но в ГБ знали, конечно.
Александр Житинский: – В ГБ знали, и я, сопоставив даты, вспомнил, что...
Самуил Лурье: – Что в этот момент вам стало труднее жить.
Александр Житинский: – ...что года два меня не печатали.
Самуил Лурье: – Очень знакомо.
Александр Житинский: – <Как сказал> Борис Натанович, «автор писал правду, но не всю правду»...
Борис Стругацкий: – «Только то, что думает, но не все, что думает».
Александр Житинский: – ...поэтому вставал вопрос о выборе темы и жанра таких, чтобы сказать максимально всё. Чтобы всё другое, что ты сказал, уже не относилось бы к этой теме. Ну, допустим, если бы я хотел писать, там, о жизни партийных верхов... ну, понятно, сама тема, если ты пишешь свободно... ясно. То есть, выбирались какие-то темы, где можно было быть свободным, и где сама тема не требовала... Хотя жизнь такова, что это почти не удавалось.
Борис Стругацкий: – Конечно, Саша. Это практически невозможно. Потому что как только ты начинаешь, как только ты распускаешься над листком бумаги, тебя сразу заносит в абсолютно запретные темы. Ты можешь писать о любви старика к молоденькой девушке, там действие происходит, может быть, чёрт побери, даже до революции... И, тем не менее, обязательно у тебя появятся там какие-нибудь тайные агенты и тебе станет неинтересно, что девушка – просто юная девушка, а надо будет, чтобы она была народоволкой... И так далее. То есть у нас психология была построена таким образом, что заносы были неизбежны. И это была, конечно, специальная, довольно неприятная и глупая работа, отсекновение вот этих вот невозможных вещей.
Самуил Лурье: – Нет, это конечно, но дело в том, что вы... Я даже не очень понимаю, о чём вы говорите, о какой осторожности, потому что оба эти романа «Потерянный дом» Житинского и «Град обреченный» Стругацких, на самом деле всё равно политические романы. Поскольку в нашей стране вообще невозможно было написать неполитический роман, правдивый роман неполитический нельзя было написать. Они политические, и философские, и авантюрные, и какие угодно. И вот с этим связан мой следующий вопрос.
Их объединяет, эти два очень разных романа, то, что в том и в другом проводится некий социальный эксперимент. Сам роман представляет собой социальный эксперимент, суть которого я бы сформулировал так: если в романе Житинского «Потерянный дом», последний раз в социалистической системе выясняются возможности общества создать для людей достойную жизнь, то в романе Стругацких «Град обреченный» выясняются возможности людей построить достойное их общество. То есть, на разных уровнях решается эта задача. Может быть, я её формулирую неправильно, но всё-таки речь идёт о социальном эксперименте в том и в другом случае. И меня, опять-таки, интересует вот этот переход от свободы к надежде, и тот процент иллюзий, которые сохранялись у авторов этих двух произведений. Потому что сегодня они уже читаются немножко по-другому. Сегодня роман Житинского «Потерянный дом» читается как очень искреннее, интимное, если угодно, проникновенное прощание с иллюзией социализма, так бы я сказал. А роман Стругацких всё же воспринимается таким образом, как будто этой иллюзии у них и не было никогда. И это такое даже не то что надгробное слово, а реквием, написанный через много лет после того, как исчез последний проблеск социализма. Вот так. И вместе с тем это романы близкие друг к другу по времени. Мне хотелось бы знать: ставя этот социальный эксперимент, рассчитывали ли вы на то, что строй, который послужил материалом для этих метафор, может быть видоизменён? То есть, была ли у вас политическая надежда, когда вы писали эти политические романы?
Борис Стругацкий: – Ну, что, Саша, вы первый?
Александр Житинский: – Нет, я не надеялся, что при моей жизни я что-то увижу другое. То есть я понимал, что история как-то всё-таки развивается, что это не может быть бесконечно, но я думал, что моей жизни не хватит на то, чтобы увидеть какие-то перемены.
Самуил Лурье: – Но ведь такая тоска в вашем романе по истинно человеческим отношениям!
Александр Житинский: – Да, может быть, какая-то надежда на такую, ну, какую-нибудь небольшую либерализацию, маленькую либерализацию, но не более того, пожалуй.
Самуил Лурье: – То есть вам скорее хотелось поделиться этой тоской, и некоторым идеалом, который всё равно запрятан в глубине каждого художественного произведения?
Александр Житинский: – Да. Фактически, я для себя исследовал собственное отношение к этому идеальному коммунизму на примере своего героя. И, потому что это было идеальное отношение к коммунизму, так сказать... Всё это было давно, развенчание проходило очень постепенно, и кончилось вот совсем недавно. Но, тем не менее, когда я дописался до того – я не знал, это не было планово – когда я дописался до того, что герой мой, который строил в детстве из спичек дворец коммунизма, как архитектор (он архитектор у меня)... И когда он спустя много лет эту детскую игрушку нашёл, уже довольно помятым гражданином, уже потрёпанным жизнью, он сжигает этот дворец коммунизма. И это финальная точка романа. И это было прощание его с иллюзией. Видимо, и моё тоже.
Самуил Лурье: – А что скажет Борис Натанович?
Борис Стругацкий: – Вы знаете, Саня, вообще-то «Град обреченный» – это роман о крахе всех иллюзий, а не только социалистических или коммунистических. Это даже не столько социальный эксперимент, сколько эксперимент психологический, что ли. Ибо это была попытка двух людей, тогда еще сравнительно молодых...
Самуил Лурье: – Вы имеете в виду Аркадия...
Борис Стругацкий: – Аркадия Стругацкого и Бориса Стругацкого. Это была попытка людей, которые начинали жизнь как отпетые коммунисты – не просто коммунисты (Тольятти тоже был коммунистом) – это были коммунисты-сталинисты, то есть, люди готовые...
Самуил Лурье: – В это невозможно поверить!
Борис Стругацкий: – Да, в это я сам сейчас с трудом верю. Это были два типичных героя оруэлловского романа. У которых doublethink – двоемыслие – было отработано идеально. Ибо двоемыслие, как известно, это способность сделать так, чтобы две противоречащие друг другу идеи никогда не встречались в сознании. А мы всю жизнь носили в сознании одновременно тот факт, что органы не ошибаются, и тот факт, что наш дядя, коммунист с дореволюционным стажем, расстрелян в 37-м году, а отец исключен из партии в 37-м году, – тоже большевик с 16-го года. И вот надо было как-то так нести, идти по жизни, чтобы эти две мысли приходили в голову только порознь. Сегодня я думаю о дяде и отце – о том, какие это были хорошие люди. Потом эти мысли куда-то вынимаются и вставляются другие мысли – о том, что КГБ, конечно, не ошибается и если арестовали врачей-вредителей, то, наверное, там что-то было. «Им виднее». И вот эти два человека, перейдя через ХХ съезд, XXII съезд, встречу Хрущёва с художниками в Манеже, свержение Хрущёва, Чехословакию в 68-м году...
Самумл Лурье: – Когда вы начали этот роман...
Борис Стругацкий: – Задумали... наконец, приходят к такому состоянию, когда они видят: социализм – дерьмо, коммунизм – строй очень хороший, но с этими мурлами, с этими жлобами, которые управляют нами и которые непрерывно пополняют себя, свои ряды, с ними ни о каком коммунизме речи быть не может, это ясно совершенно.
Капитализм... В капитализме тоже масса вещей, которые нам отвратительны. Это теория гедонизма, это теория, что жить надо для того, чтобы получать только удовольствие. Для нас, молодых тогда, здоровых людей, эта идея казалась неприятной. Нам казалось (мы же всё-таки оставались в глубине души большевиками) – нам казалось, что человек должен жить, сжигая себя, как сердце Данко. Понимаете? То есть создавалась полностью бесперспективная картина. И вот, мы написали роман о том, как человек нашего типа, пройдя через воду, медные трубы, через все общественные формации, повисает в воздухе точно так же, как мы сами повисли в воздухе, потому что мы перестали понимать, к чему должно стремиться человечество. Мы перестали это понимать к середине семидесятых годов. Вот о чём роман. Это реквием по всем социальным утопиям вообще – будь то утопии социалистические, коммунистические, капиталистические – какие угодно. Вот о чём это написано и, как вы, может быть, помните, там мы пытаемся выдвинуть какую-то контр-идею – цель существования человечества, лежащую вне социальных проблем, вне политики, вне социального устройства, вне проблем материального производства, распределения благ и так далее, и так далее. Идею храма культуры. Как бы развивая метафору, что человечество живёт, строя храм культуры, как микроскопические ракообразные живут, строя коралловый риф, и не понимая, что они создают.
Самуил Лурье: – Другими словами, вы выдвинули такую теорию, что если мы не знаем, зачем всё это было, то, может быть, это кому-то всё-таки было нужно. Может быть, какому-то даже другому разуму.
Борис Стругацкий: – Может быть. Хотя мы так конкретно никогда не ставили это вопрос, потому что это была бы фантастика второго порядка, которую я не люблю.
Самуил Лурье: – Но кто-то же включает Солнце в вашем романе. Включает и выключает...
Борис Стругацкий: – Это просто экспериментаторы. У них свои задачи. Они совершенно нас не касаются. У них свои дела, они занимаются этим, нас это не касается. Мы выясняем свои проблемы – как и для чего нам жить дальше. А у них какие-то свои, нас это не интересует. Это чистая условность. Такая же условность, как отсутствие четвертой стены на театральной сцене... Я забыл, о чем мы говорили (смеётся).
Самуил Лурье: – Мы говорили о том, с какой дозой надежды...
Борис Стругацкий: – Ах, да. Что касается надежды: уже к этому времени – середине семидесятых – мы оба были абсолютно убеждены в том, что умрём в этом топком вонючем болоте. Что ничего другого никогда мы уже не увидим. Дети наши – может быть, хотя вряд ли. Но уж мы-то точно не увидим ничего, кроме этих портретов, бесконечных Звёзд Героев, этих гнусных лозунгов и этой отвратительной, каждодневной, осточертевшей лжи, которая пропитала всё. Всё! Никакого выхода я не видел. То есть, рассуждая холодно и здраво, я понимал, что это общество не может существовать в реальном мире – оно могло бы существовать вечно, если бы вся Земля принадлежала бы господину Брежневу. Но, поскольку существуют другие страны, это общество обязательно будет гнить, разваливаться, отставать безнадёжно – от Америки мы отстаём на 15 лет, а в области теории информации, кибернетики отстали навсегда... И это рано или поздно должно чем-то кончиться. Чем? Ну, естественно, кровавым взрывом. Естественно, наступит такой момент, когда более энергичные, более динамичные соседи найдут нас достаточно слабыми для того, чтобы разделить этот воняющий пирог на части. Но эта перспектива была отвратительна, потому что нам казалось, что пусть уж <лучше> будет зловонное болото, чем кровавое болото. И поэтому мы молили Бога только о том, чтобы эта неизбежная концовка оттянулась в возможно далёкое будущее. И вот, к нашему всеобщему изумлению, вдруг настаёт 85-й – 87-й год...
Самуил Лурье: – Подождите, мы до этого ещё не дошли. Я хочу сказать, что если бы кто-нибудь послушал наш разговор со стороны, не читая этих двух романов, он подумал бы, наверное, что речь идет о книгах совершенно мрачных, безнадёжных, несущих огромный политический заряд, но предназначенных для каких-то скептических умов, не умеющих улыбаться. А между тем, и та, и другая книга – и «Потерянный дом» и «Град обреченный» – это, помимо всего прочего, очень весёлые книги. В глазах читателя они смешные. Вообще говоря, всем известно, что Стругацкие – мастера сатиры и юмора. Хотя это всем осточертевшее словосочетание, но вы же очень смешные писатели. И Житинский писатель очень весёлый и смешной в глазах читателя.
Борис Стругацкий: – Это то, что объединяет Житинского со Стругацкими. Это общее.
Самуил Лурье: – И вот я хочу сказать, что, наверное, это не случайно и вытекает из того, о чём мы говорим. Потому что даже при максимальной безнадёжности свобода без иронии, без юмора, без взгляда сверху и со стороны в неожиданном ракурсе, по-видимому, невозможна. И в этом смысле, наверное, не случайно, что именно в нашей стране может возникнуть такая литература: одновременно серьёзная и очень весёлая. Как это связано? Видите ли вы сами некоторую необходимость писать весело – ведь это же не просто проявление темперамента?
Борис Стругацкий: – Интересно, что Саша скажет...
Александр Житинский: – Нет, не темперамента, наверное. Я всегда был согласен... Кажется, Чехов сказал, что юмор – признак ума. Я не верю, что человек умный может не воспринимать юмора...
Самуил Лурье: – Мне тоже так кажется. Замечательный текст всегда остроумен.
Александр Житинский: – ...не быть смешным. Вот что самое интересное: юмор – это осознание себя как очень смешного человека, часто очень нелепого. И когда ты так смотришь на себя, это позволяет тебе так же смотреть на других. Есть люди, которые очень подмечают смешное в других, но скажи им, что они сами смешные безумно – они, наверное, обидятся. Я просто не представляю другого способа общения и с людьми, и с читателями – иронично, смягчать иронией, но при этом всегда помня о том, что я остаюсь таким же смешным в глазах другого умного человека, как и он в моих глазах.
Самуил Лурье: – То есть смех, наверное, необходимо входит в свободу ума. Это её проявление.
Александр Житинский: – Обязательно. Конечно. Для меня – непременно.
Борис Стругацкий: – Я с Сашей абсолютно согласен с той только разницей, что мне кажется, что он очень глубоко копает. Я как раз более поддержал бы вашу, Саня, такую совершенно поверхностную и очевидную позицию, что в каждом из нас заключён вот этот вот смеющийся чёртик. Мы такие, мы родились такими. Ведь есть люди, которые всегда стоят внутренне по стойке смирно. Люди, которые считают, что улыбаться грешно, люди, которые всё делят на святые вещи и вещи бытовые.
Самуил Лурье: – Позволю себе заметить, что есть государства, которые так считают.
Борис Стругацкий: – Государствам сам Бог так велел, потому что для каждого государства существуют такие понятия как знамя, орден, отечество, патриот. И ещё множество слов, которые пишутся с большой буквы. В нашем государстве эти слова были определены как абсолютно хорошие и их нельзя было применять, скажем, к фашистским захватчикам. Не мог быть фашист патриотом. Он не мог быть героем. Ну, в лучшем случае, это был отчаянный фанатик. С государством-то как раз всё ясно, но вот люди – они ведь рождаются и живут в определённых условиях. Их окружают другие люди, друзья... И, в конце концов, если в них есть этот смеющийся чёртик, он всегда у них прорывается. О каких бы серьёзных вещах вы бы не говорили, Саня, не писали, вы обязательно найдёте что-то смешное в неожиданном повороте мысли, в сочетании слов...
Самуил Лурье: – Иначе неинтересно.
Борис Стругацкий: – Иначе нельзя! Вот ведь в чём хохма. Вы правы в том смысле, что мы пишем так потому, что иначе не умеем писать. И если бы я даже поставил перед собой задачу написать какое-то абсолютно возвышенное произведение, написанное только словами с большой буквы – у меня бы просто не получилось это. Хотя у некоторых людей получается. Очевидно, это связано именно с темпераментом.
Самуил Лурье: – Я говорил в начале о том, что, готовясь к этому разговору, к своему удивлению обнаружил, что между вами много общего. И наш разговор выводит меня, совершенно естественно, к ещё одному призраку, который вас объединяет – призраку некоторого вашего общего литературного предка. Потому что мы говорили о том, что значит писать «в стол». Мы говорили о том, что значит писать без надежды. И мы говорили о том, что нельзя не писать при этом смешно. И если бы мы говорили при этом не о вас двоих, а о каком-нибудь третьем писателе, то непременно всплыло бы имя Булгакова. Который, между прочим, фигурирует и в вашей повести «Хромая судьба» и в вашем романе «Потерянный дом», как некоторое мерило литературной свободы, литературной честности и таланта. Я в связи с этим хотел спросить, что для каждого из вас значит Булгаков.
Александр Житинский: – С самого начала, как только я начал писать прозу – а это случилось довольно поздно... относительно... я ряд лет жизни отдал стихам... После тридцати я начал писать прозу...
Самуил Лурье: – А вы, Борис Натанович?
Борис Стругацкий: – А что называется... Саша, вы до «Лестницы» писали что-нибудь?
Александр Житинский: – Нет. Это фактически первая...
Борис Стругацкий: – Первая вещь. Когда вы её примерно написали?
Александр Житинский: – В семьдесят первом – семьдесят втором.
Борис Стругацкий: – Так. Но это уже серьёзная вещь. Первая наша серьёзная вещь была написана году в пятьдесят шестом – пятьдесят седьмом.
Самуил Лурье: – «Стажеры»?
Борис Стругацкий: – Нет. «Страна багровых туч». Это была, конечно, смешная вещь, но по тем временам это было что-то серьёзное.
Самуил Лурье: – Одна из самых высоких утопий, какие...
Александр Житинский: – Но к тому моменту я уже успел прочитать «Мастера и Маргариту», и Булгаков, конечно, сразу же сделался в силу этих обстоятельств – юмора в том числе – пожалуй, и остался моим любимым писателем. Духовный отец, если пользоваться выражениями с большой буквы. Я так вот его для себя и считаю, и держу, хотя понимаю, что, естественно, не может быть ни двойника... Это именно продолжение некой традиции, потому что, если говорить про чисто писательские вещи, то разница есть, и она довольно ощутима. Темперамент. Булгаков – более жёсткий и определённый и человек, и писатель, чем я. Меньше склонный к компромиссу, гораздо более бесстрашный. Конечно же. Но, тем не менее, всё-таки я достаточно сознательно и даже в этом романе нарочито, может быть, даже вводя Булгакова почти в персонажи... Там есть у меня синклит великих литераторов.
Самуил Лурье: – Замечательная сцена, где подвергается суду чуть ли не вся советская литература.
Александр Житинский: – Да. <Сцена>, которая, в общем-то, напрямую вытекает из бала Сатаны. Вот эта глава, она написана как аналог почти.
Самуил Лурье: – Я конкретизирую. Саша очень интересно ответил, но я, пока его слушал, не договорил своего вопроса. Существование Булгакова... Где-то он всё равно существует – всякий писатель, напечатавший свои книги, он существует, так же, как вы будете существовать всегда – я в этом абсолютно уверен. Вот его существование помогало вам жить своим примером? Ведь, в сущности, в судьбе чрезвычайно много общего. Мне очень дорога эта мысль, что писатель никогда не умирает до конца. Не новая мысль, но ужасно она меня греет и мне кажется, что Булгаков участвовал в вашей жизни как личность, как сущность, не просто как литературный предшественник или там стилистический пример. Можно ли так сказать?
Борис Стругацкий: – Я боюсь, что это слишком красивый образ, Саня. В каком-то смысле – да, конечно, это просто даже банально. Но если попытаться установить какое-то соответствие между образом, который вы нарисовали и реальным положением вещей, то всё будет не так просто. Я не могу сказать, что каждую минуту своей жизни я думаю о Булгакове и в каждый момент в творчестве, когда мне было трудно, я прибегал к нему, как любили у нас в своё время говорить. Этого нет. Я отношусь к сравнительно небольшой группе, как я знаю, читателей, которые лучшим и неописуемо прекрасным романом Булгакова считают не «Мастер и Маргарита», а «Театральный роман». И я даже думал, почему так происходит: вероятно, это происходит потому, что вот этот роман, герой его соединён со мной, с моей душой буквально тысячей нитей. Буквально всё, что говорит этот человек, всё, что думает он, все его способы восприятия мира, они перекликаются с моей душой так, как в молодости, когда влюблён: что бы ни говорила милая девушка, что бы она ни сказала, всё отзывается каким-то серебристым эхом.
Самуил Лурье: – Происходит какое-то уподобление одного человека другому, да.
Борис Стругацкий: – И вот такая, может быть, смешная немножко влюблённость к Максудову и к «Театральному роману» есть у меня. Я вот сейчас вспомнил, Саша, у вас, в вашем романе есть прекрасный пассаж. Я, конечно, дословно его не помню, но смысл был в том, что любой советский человек способен быть литературным цензором. Потому что он совершенно точно знает: вот это можно, а это нельзя. На улице останови затрюханного какого-нибудь дядёчка и спроси: «Вот как ты считаешь, это можно в газете напечатать?» Он прочтет и скажет: «Не-е-ет, да ты что, нельзя!»
Самуил Лурье: – Это один из немногих случаев, когда действительно каждая кухарка научилась управлять государством.
Борис Стругацкий: – Это удивительно тонко Саша подметил. Но вспомните, как воспринимает Максудов бедствия, обрушившиеся на него, – чисто литературно-издательские бедствия. Ведь он же не верит, почему это нельзя печатать, так же как в это не верит автор в «Мастере и Маргарите». Эти люди не понимали, что они такого написали, что не должно и не может быть опубликовано. Вот эта вот гигантская дистанция между героями Булгакова, то есть героями двадцатых годов, людьми двадцатых годов и мной, человеком пятидесятых годов, она всегда потрясала. Какой страшный путь общество прошло, чтобы во всех людях вытравить представление о свободе литературы. Вот к этому мы опять возвращаемся.
Самуил Лурье: – Мы возвращаемся опять к свободе, то есть, к норме. К свободе как к норме.
Борис Стругацкий: – То есть к норме. Поэтому, вы знаете, для меня Булгаков – это прежде всего, между прочим, писатель с прозрачнейшим и неповторимым русским языком.
Самуил Лурье: – Как замечательно, что вы это сказали, потому что мой следующий вопрос как раз с этим связан. Мы говорили об этих двух романах – «Потерянный дом» и «Град обреченный» – как об экспериментах социальных. И вы говорили о них, как об экспериментах психологических. Но каждый из них ещё и представляет собой стилистический эксперимент. И опять-таки мне кажется, что в этих двух экспериментах довольно много общего. Потому что и там и здесь имеется метафорический сюжет, сюжет именно как метафора, которая развивается, превращаясь в действие и, в общем, универсальный слог. Универсальный, то есть... Вот у него есть такая внешняя примета – его легко должно быть переводить, потому что это в чистом виде работа человеческого ума. Не теряющаяся в вязких личных оттенках словоупотребления. Это романы, которые понятны человеку любого слоя, и я убежден, что они, что редко бывает в литературе, что они должны быть понятны, и хороши, и вызывать улыбку и тревогу в переводе. И я хотел бы понимать, насколько сознательно это было сделано.
У меня такое ощущение, что оба эти романа воплощают некоторую одну тенденцию – какое-то прощание с литературой. Мне кажется, что авторы в том и другом случае всё знают, как надо писать: как строить диалог, как строить сюжет, как описать вещь, как описать человека. Они знают, как это делали Хемингуэй, предположим, и как это делалось в исландских сагах. Они знают и сознательно выбирают наиболее универсальные, наиболее доходчивые, наиболее элегантные приёмы. При этом и в том и другом романе чрезвычайно много игры. Я уж не говорю о том, что в романе Житинского целые главы написаны так, как будто их написал Стерн. Что там всячески обосновано и введено в ткань романа. Но и в вашем романе, поскольку там проходят разные исторические периоды и социальные формации, там предстают люди из всех эпох человеческой истории в соответствующем, сопутствующем им стилистическом ореоле. Каждый раз этот стилистический ореол выдержан так, как будто авторы хотят показать, что они владеют буквально всеми манерами повествования, а выбирают некий общий знаменатель. Это литература – в том и другом случае – как бы обобщающая предшествующую литературу. Такое у меня впечатление. Мне очень хотелось бы знать, насколько это делалось сознательно.
Борис Стругацкий: – Я, к сожалению, Саня, ничего не могу сказать вам по этому поводу, если быть честным. Я, конечно, мог бы накрутить какой-нибудь здесь пассажик литературоведческий. Но, честно говоря, я никогда не понимал, как мы пишем. Не забывайте: мы пишем вдвоем.
Самуил Лурье: – Вы всегда скрывали это – от меня, например. Я всегда вас расспрашивал и вы никогда не отвечали никому, насколько мне известно.
Борис Стругацкий: – На самом деле мы всем отвечали! Всем отвечали одно и то же и с максимально возможной искренностью, но никто не верил нам. Потому что мы можем объяснить только технику работы. Но этого мало. Потому что техника нашей работы состояла в том, что каждое предложение придумывалось вдвоём. Один предлагает текст, другой в этом тексте меняет несколько слов и возвращает его как бы тут же через стол первому. И происходит такая вот отшлифовка. Вы и сейчас смотрите на меня с каким-то подозрением.
Самуил Лурье: – Нет-нет. С восхищением! С изумлением!
Борис Стругацкий: – Но на самом деле это именно так и происходило. Может быть когда-нибудь, Саня, мы с вами сядем и напишем какую-нибудь литературоведческую статью вдвоём. Попытаемся это сделать. Вы, конечно, будете меня забивать – мы будем в неравных условиях. Там-то мы были в равных, а здесь вы... Но, тем не менее, вы поймёте, о чем я говорю. Поэтому ответить на вопрос: почему выбраны те или иные слова, почему выдержан тот или иной стиль, я не могу. Это всё потонуло где-то когда-то в технике работы.
Самуил Лурье: – Понимаю. Но, в принципе, вы согласны с <такой> характеристикой?
Борис Стругацкий: – Мне кажется, вы очень высоко оценили наш роман. Фактически, если вашу фразу передать кратко, вы сказали, что это некое литературное совершенство. Чего я ни в коем случае не считаю...
Самуил Лурье: – Я очень высоко ставлю литературу Стругацких в целом.
Борис Стругацкий: – Я вам благодарен, Саня, но это, во-первых, не есть некий итог. Всё-таки после этого романа мы написали ещё несколько вещей. Я не знаю, вы можете относиться к ним хуже или лучше, но мы-то считаем их настоящими. Мы любим «Хромую судьбу», мы любим «Отягощённые злом», мы эти вещи считаем настоящими.
Самуил Лурье: – Да нет, я понимаю.
Борис Стругацкий: – То есть это не есть некий итог, что как бы следует из вашего рассуждения. Но главное не в этом. Главное в том, что я, к сожалению, не могу ответить на вопрос Сани. Я не знаю, как это делается. Я могу только рассказать процедуру, а как получается – не знаю.
Самуил Лурье: – А вы, Саша?
Александр Житинский: – В общем, конечно, если так по-настоящему, тоже это, вероятно, невозможно. Для меня существовал в этом романе интонационный ориентир в виде Стерна. Но, опять же...
Самуил Лурье: – В виде «Сентиментального путешествия».
Александр Житинский: – Да. Скорее даже «Тристрама Шенди». Когда я прочитал эту вещь, я был просто... Мне хотелось вот так, вот так, вот так! (жестикулирует, смеётся)
Самуил Лурье: – Сделать его соавтором и персонажем.
Борис Стругацкий: – Замечательно! Как можно Стерна брать за основу? При сходстве, насколько мы <c Cашей> разные!
Александр Житинский: – Именно интонационно. Не по слову, это не стилистика Стерна.
Борис Стругацкий: – Интонационно. Да-да, я очень хорошо это понимаю.
Самуил Лурье: – Вы знаете, я сейчас подумал, что Саша писал этот роман со Стерном, как вы с Аркадием.
Борис Стругацкий: – Может быть. Может быть. Что-то в этом роде.
Александр Житинский: – Не более того. А в остальном у меня только один критерий в отношении к языку: язык должен был незаметен. Произведение должно быть лишено языка, как специального... (жестикулирует, подбирает слово)
Борис Стругацкий: – Интересная точка зрения!
Александр Житинский: – Я грешен, я с величайшим почтением отношусь к Набокову как к писателю, но мне мешает его блестящий язык. Я всё время останавливаюсь на том, как это блестяще написано, а не на том, что же написано.
Борис Стругацкий: – То же самое мешает мне в Платонове.
Александр Житинский: – В Платонове отчасти тоже. Язык должен быть стеклом, через которое ты видишь этот мир.
Самуил Лурье: – Да. Как я и сказал: работа человеческого мозга.
Александр Житинский: – Чтобы было всё понятно. Вероятно, для этого нужно быть хорошим стилистом, но скорее всего это либо есть, либо нет. Специальная работа над стилем – я не понимаю, что это такое.
Самуил Лурье: – Понятно. Когда он есть, над ним можно и не работать. Я понимаю. Теперь у меня немножко неожиданный вопрос в сторону. Я подумал: как странно, что очень много лет, если не десятилетий, главными читателями прозы Стругацких были молодые научные работники. Эта огромная армия младших научных сотрудников – вы сами когда-то об этом писали – людей главным образом технического и естественнонаучного образования.
Борис Стругацкий: – Да.
Самуил Лурье: – Но это была молодёжь, и они считали вас с Аркадием своими писателями, они образовывали вокруг вас защитную, если угодно, среду. И, вероятно, до вас доносилось какое-то дыхание их восхищения, их любви. Они друг другу передавали немногочисленные книжки и ещё менее многочисленные рукописи, рвали из рук ваши интервью и ваши фотографии и так далее. Но интересно, что и Саша Житинский, хотя он гораздо позже начал и в другое, тоже по-своему очень сложное время, работал, при тоталитарном нашем строе... Он, в конце концов, почувствовал необходимость вот в таком вот молодом защитнике, если угодно. Он занялся рок-музыкой. Его полюбили и узнали все рок-музыканты и фанаты. У вас – фанаты фантастики, у вас – фанаты рок-музыки.
И, вы знаете, я сам был на этой самой площади перед Мариинским Дворцом в ночь на двадцать первое августа прошлого года. И я подумал: там встретились два поколения. И оба этих поколения были одновременно читателями и почитателями Стругацких и Житинского. Там было очень много молодёжи, которая пришла, чтобы... Представьте себе, я их потом расспрашивал. Они пришли, чтобы драться и побеждать. Вот кто там был. Это были ваши, наверное, рок-музыканты: у многих были магнитофоны, играла музыка. И это были ваши читатели. Фанаты фантастики. Но там также были люди... Вы, наверное, заметили, что ваши читатели делятся на две категории: молодёжь и пожилые люди – люди моего, скажем, возраста. Я знаю, что Саша Житинский... когда <он свою> первую повесть... кому принес? Руфи Зерновой, вот людям этого поколения. И у вас, <Борис Натанович>, так же было. И посередине какой-то провал с читателем. Есть читатель молодой, который вас любит и читатель старый, который вас понимает. И на площадь перед Белым домом, конечно, и к Мариинскому Дворцу пришла молодёжь, чтобы побеждать и сражаться, и старики, условно говоря, пожилые люди вроде меня. Пришли только ради того, чтобы, если придётся, погибнуть, раз всё кончено. Отнюдь не для того, чтобы побеждать, а просто: «Пусть это пройдёт по мне, раз так». Потому что стыдно, чтоб не по мне.
Борис Стругацкий: – Я пришёл туда, потому что мне было невозможно сидеть дома. Было тоскливо и страшно.
Самуил Лурье: – (неразборчиво) Голос, что те, кто могут помочь, должны были идти.
Борис Стругацкий: – Нет, у меня было... Мне было страшно сидеть дома. Когда я пришёл туда, я как будто помолодел и оживился. Стало легко.
Самуил Лурье: – Да, там стало так хорошо! Там играла музыка, там были прекрасные молодые лица. Так вот, я хочу сказать, что это вас тоже объединяет. Вот этот круг, подобный тому, что окружал то, что мы теперь называем защитниками Белого дома – и у вас был этот круг – у каждого свой, но где-то они пересекались. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже что-то об этом сказали. Какие у вас отношения внутренние и внешние с этими кругами?
Борис Стругацкий: – Я думаю, что всё дело сводится к тому, что Саша, наверное, любит иметь дело с молодыми. Просто вам интересно с ними, верно?
Александр Житинский: – Интересно.
Борис Стругацкий: – И мне тоже. Мне просто интересно с молодыми ребятами. Я, кстати, вот не люблю маленьких детей. Это мой большой грех, я всё понимаю, я очень плохой дед. Я совершенно равнодушен к маленьким детям. Но вот к мальчишкам и девчонкам – мальчишкам главным образом, надо сказать – в возрасте от 16 до 26 у меня какие-то удивительно тёплые чувства. Может быть, потому что я уже довольно давно понял, что...
Самуил Лурье: – ...что это самые умные люди в нашей стране.
Борис Стругацкий: – Не в этом дело. Что вот это то самое будущее, о котором я всё время думаю. Это оно и есть. Нас не будет, нас забудут, а они будут жить. И будут продолжать. Вот это при всей банальности этих слов играет какую-то важную для меня роль. Я подозреваю, что... Мне интересно с ними, да простят меня мои коллеги по возрасту, но мне интереснее с ними, чем со своими сверстниками. За исключением, конечно, нескольких близких друзей.
Александр Житинский: – То же самое. В какой-то момент я почувствовал, что интересы моих сверстников – опять же за каким-то исключением – разговоры за столом, при встрече, мне неинтересны. Их проблемы – не мои проблемы. А проблемы тех – почему-то мои. То ли я остался в том возрасте... Могу, кстати, подтвердить совершенно точно: когда я окунулся вот в этот мир музыкальной молодёжи, рокеров, единственными писателями среди современных русских писателей, которых читала эта публика, были Стругацкие. Единственными. Не просто одними из немногих. Я точно говорю: единственными. Это меня просто поразило. Я специально проводил опрос.
Самуил Лурье: – У меня на этот счёт есть целая теория, я тоже ловлю себя на том, что мне интересно только с этим возрастом. Но я довольно давно – поскольку я и учителем школьным был, и очень много читал лекций... я убедился, что в нашей стране что-то ужасное происходит с человеком от 16 примерно до 23, я бы сказал. Там среди них очень много умных, интересных, всё понимающих, талантливых, надёжных в любом смысле людей. И что-то – приблизительно это совпадает с окончанием вуза и первым годами так называемой самостоятельной жизни, когда им вдруг указывают их настоящее место и они понимают, что без компромисса, без унижения, без пошлости ничего вообще в этой жизни не достичь – вдруг что-то происходит и они становятся неинтересными и тусклыми. И это как будто сделано нарочно, чтобы по-настоящему взрослым в этой стране никто не стал никогда. Так было и мне казалось, что это почти осознанная государственная политика. И две революции происходили во внутреннем развитии каждого советского человека. Первая – вот эта простая. Четвероклассник любой – то есть мальчик лет девяти-десяти – прелестное существо, остроумное, тонкое, талантливое, пишет стихи, рисует, всё замечательно. И тут происходит сексуальный взрыв гормонов. И в седьмом классе вы встречаете тусклые лица, среди которых блистают только несколько пар глаз. И вторая революция происходит – вот эта, социальная. Второе падение – социальное, второй отбор, если угодно. И вот почему вашими читателями остаётся все время один и тот же слой людей. То есть возрастной. А потом я не знаю, кого начинают читать люди, когда уходят от вас. Может быть, впрочем, и никого.
Александр Житинский: – Надо сказать, что тот возрастной слой, с которым я десять лет назад столкнулся... Прежде всего – рок-музыканты, фанаты и вокруг них, тоже какие-то, на десять-двенадцать лет старше... Их сменило уже то поколение, которое я не знаю. Этих я уже не знаю. И мне кажется, что они, та молодёжь, которая за эти годы воспринимает жизнь совсем по-другому, им уже не нужно бороться... Они какие-то другие. Они для меня уже не очень понятные.
Борис Стругацкий: – Боюсь, что сейчас вырастает поколение вот этих самых шестнадцати-двадцатилетних – совсем другое.
Самуил Лурье: – Совсем другое. В частности, они выросли с недоверием к слову. Изолганному, проституированному слову. Имею в виду советскую литературу и идеологию. Они не будут читать, мне кажется. Вырастает поколение, которое не будет читать.
Борис Стругацкий: – Они уже не читают.
Александр Житинский: – Да.
Самуил Лурье: – Они не верят слову. Вот в чём беда. И у меня остался еще один-единственный, зато личный вопрос и краткое, может быть, заключение. Личный вопрос связан с понятием героя в вашей прозе. Насколько я представляю себе, а я уже, слава тебе, Господи, наверное, больше тридцати лет являюсь читателем Стругацких, чем очень горжусь... Так может быть, наверное?
Борис Стругацкий: – Да, теоретически.
Самуил Лурье: – Я насколько себе представляю, у вас был всегда герой, которого для себя я называл так: интеллигент с автоматом. Был у вас такой герой? (Борис Стругацкий кивает.) Проходя через разные стадии вашего мировоззрения, через разные сюжеты и так далее... Может быть, это теперь не будет человек с автоматом, но, во всяком случае, речь шла о том, что по-настоящему умный, может быть, талантливый человек, обладающий средствами связи, обладающий информацией, обладающий оружием, обладающий влиянием и так далее – вот единственное существо, которое может что-то сделать в этом мире. В то время как в прозе Житинского главный герой, что бы ни происходило вокруг него – это художник, человек воображения, мечты. Происходит что-то с людьми вокруг, а с ним ничего не происходит. Просто ему либо удаётся создать произведение, либо не удаётся. И это единственный, но самый важный, может быть, его вклад в мироздание. С этим вы, наверное, оба не будете спорить.
Но интересно, что в реальной жизни Борис Натанович Стругацкий ведет образ жизни такого, что называется, свободного художника, живущего в башне из слоновой кости, хоть мы и говорили сегодня о площади. Отрешённого, в общем, от реального действия и политики. А Саша Житинский, несмотря на то, что он поэт и близкий к музыке человек, несмотря на свою более явно выраженную художественно-гуманитарную направленность, пытается что-то именно сделать в новых наших экономических и политических обстоятельствах. Пытается быть бизнесменом, продюсером, менеджером. Какой странный парадокс. Мне он представляется странным. Что думаете об этом вы?
Борис Стругацкий: – Я очень рад, что Саша Житинский выступает как бизнесмен.
Самуил Лурье: – Я тоже, конечно, если это не во вред прозе.
Борис Стругацкий: – Это пусть разберётся Саша сам. Каждый человек знает грань, на которой надо остановиться. Но вот то, что такие люди, как Саша, начали заниматься бизнесом, – это обнадёживающий фактор.
Самуил Лурье: – То есть в какой-то степени он начинает становиться вашим героем. Героем вашей прозы. Положительным героем вашей прозы.
Борис Стругацкий: – Санечка, я с этой точки зрения совсем на Сашу не смотрю. Саша совсем никакой не мой герой, Саша – симпатичный мне, очень талантливый человек, которого я знал как талантливого писателя, а теперь я его узнаю с удовольствием как талантливого бизнесмена. Это очень хорошо. Это замечательно. Я рад и всячески желаю ему успеха и если я чем-то могу споспешествовать ему, я всегда готов это делать. Но ведь, Саня, я тоже не остался в стороне. Я все-таки имею...
Александр Житинский: – Семинар.
Борис Стругацкий: – Семинар – это немножко другое. Я имею честь быть на общественных началах главным редактором в двух частных издательствах. И хотя успехи наши в силу общего экономического кризиса невелики, но, тем не менее, я лелею мечту, что мне, может быть, удастся в конце концов наладить ровный поток хорошей остросюжетной фантастической, детективной, приключенческой литературы. Главным образом, отечественной, потому что все издатели сейчас кинулись в издание зарубежной литературы. Я к ней отношусь с большим удовольствием, высоко ценю. Но мне кажется, что советская фантастика – самая многострадальная и самая многообещающая в мире, как я считаю, – она ещё не сказала своего слова. Сейчас появляются всё новые и новые люди – им надо дать печатные площади. Так что я, хотя и не бизнесмен, но какой-то такой культуртрегер, если угодно, я вынужден выйти из башни из слоновой кости и шевелить лапками в этом направлении. А вот что касается Саши, то я бы с удовольствием услышал о каких-нибудь его планах.
Александр Житинский: – У меня на этот счет есть своя собственная теория. Поскольку я сам для себя являюсь наиболее интересным объектом литературного исследования, я думал об этом, как что получается. И у меня ответ очень простой и, как ни странно, астрологический какой-то. Дело в том, что я по гороскопу дракон, то есть, трёхголовое чудовище. И одна – центральная голова – это чисто практический, очень прагматический человек, который занимается делами. Грубо говоря, бизнесмен. Левая голова – это голова художественная – некоего творческого такого человека. И правая голова – это голова пьяницы, развратника, что тоже бывало в моей жизни. Они иногда странно взаимодействовали. Они друг с другом находятся в очень непростых отношениях – эти три головы. Это замысел моего следующего романа «Господин дракон», который я, даст Бог, обязательно напишу. Потому что это будет роман о сложных взаимоотношениях трёх голов одного существа. Потому что это действительно так. Сейчас, в данный момент, у меня левая голова находится в покое, она просто свободна. Она спит. Работает центральная голова. Я организатор чего-то, но в какой-то момент она проснётся и заткнёт пасть той голове и скажет: «Дай мне тоже!»
Самуил Лурье: – А что делает правая голова?
Александр Житинский: – А правая голова тоже время от времени требует тоже своего.
Борис Стругацкий: – Тогда центральная голова говорит ей: цыц! Вот когда заработаем первый миллион...
Александр Житинский: – В центральной голове сосредоточено чувство справедливости, ей стыдно вот за то и неловко бывает за это.
Борис Стругацкий: – В центральной? Не в левой?
Александр Житинский: – По-моему, нет.
Борис Стругацкий: – Мне кажется, что это в левой. Центральная должна быть, мне кажется, холодной такой, рассудочной, рациональной. Нет?
Александр Житинский: – Вот это <трудно> установить. Потому что левая тоже довольно безнравственна.
Самуил Лурье: – Мне это трудно понять, потому что я телец и лошадь.
Борис Стругацкий: – Что это значит?
Самуил Лурье: – Я телец по зодиаку и лошадь по восточному гороскопу. То есть я, видимо, должен идти просто вперёд всё время. У меня нет трёх голов, к сожалению.
Борис Стругацкий: – Телец – это одно, а лошадь – другое. Это очень разные вещи. Я пытаюсь сейчас вас разглядеть. Там тельцом и не пахнет, как говорится!
Самуил Лурье: – Я надеюсь, хоть лошадью.
Борис Стругацкий: – Лошадь... Мощь лошади в вас чувствуется!
Самуил Лурье: – Спасибо! И самый-самый последний вопрос. Я хотел спросить, что же случается с человеком, когда он писал роман без надежды, а потом его напечатали... Но это уже видно из того, что вы говорили. Но вот я сейчас думаю: всё-таки, несмотря на то, что мы провели очень важный и волнующий разговор... Для меня это важно, как для историка литературы, у меня всё равно какая-то часть мозга – я говорю совершенно серьёзно – всё время регистрирует, что то, что сейчас происходит, – есть часть истории литературы. И не дай Бог, чтобы эта плёнка почему-нибудь не так засветилась... Совершенно неважно, сделают из неё рекламный ролик или не сделают, её надо сохранить в любом случае, потому что когда-нибудь она будет бесценно важна для, может быть, каких-то молодых людей следующего столетия. Но вот сейчас мы играем в книжную ярмарку, в рекламный ролик. Я представляю так: что бы ни случилось с нашей страною, как бы ни изменился строй, что бы нас не ожидало, совершенно ясно: книги вас обоих существуют, и я не представляю себе без них европейскую культуру, которая, безусловно, всё равно сохранится. Рано или поздно эти книги Бориса Натановича все будут переведены, никуда от них европейские читатели не денутся, их не надо даже рекламировать. Раньше или позже это произойдет. Потому что без них, повторяю, невозможна европейская культура, если она ещё хочет жить и существовать.
Но всё-таки нет ли такого ощущения, что когда теперь заново, снова, когда тебя, предположим, издали, напечатали в этих советских издательствах довольно большими тиражами... Ни одной из этих книжек, правда, не найти в книжном магазине и из библиотек они большей частью украдены, – я даже не думаю, а про некоторые библиотеки знаю точно. А не возникает ли иногда ощущение, что необходимо, чтобы перевели, чтобы ещё где-нибудь прочитали? Помимо славы, помимо разных материальных выгод. Не возникает ощущения сходного с тем, что писать только на своём языке и быть известным только своему читателю – это немножко похоже на то, что писать в стол. Не возникает ли такое чувство? Или это совершенные пустяки для человека, который на самом деле писал роман без надежды, прошел через это всё, увидел свой роман напечатанным – и по сравнению с этим – ярмарка – не ярмарка, переводы – не переводы, гонорары – не гонорары – всё абсолютные пустяки? И это просто игра – добавочная игра после того, как уже главный выигрыш получен? Что для вас эта ярмарка?
Борис Стругацкий: – Для Саши это, наверное, важно, для меня, откровенно говоря, совсем нет. Я к этому отношусь вполне равнодушно.
Самуил Лурье: – Понимаю. Это потому что вы – человек, избалованный славой, отчасти.
Борис Стругацкий: – Может быть.
Александр Житинский: – Я боюсь, что лично как автора этого романа меня это интересует тоже не в первой степени. Для меня намного важнее было бы, чтобы этот роман достаточно хорошо прочли здесь. Чего, к сожалению, не состоялось в силу определённых политических катаклизмов.
Самуил Лурье: – Совершенно верно. Это парадоксально, но, если бы этот роман появился на год, скажем, раньше, у вас были бы огромные, может быть неприятности, но его тогда бы прочитали.
Александр Житинский: – Но это ничего, поскольку мне кажется, что качество литературного текста и сама проблема выдерживают испытание временем.
Самуил Лурье: – Безусловно.
Александр Житинский: – Что касается зарубежного – мне кажется, что... для меня это не так важно. Конечно, с точки зрения какой-то славы, материально – это интересно. Но сама ярмарка, в которой я и моя команда участвуют уже в качестве первого в России независимого литературного агентства, вот эта игра, в которую мы никогда ещё не играли, – она безумно интересна. Потому что как это делается в цивилизованных странах, как это может делаться у нас... Как это у нас, допустим, писатель не будет обивать пороги редакций – как это всегда бывало с ним. Не будет чувствовать себя униженным, а какой-то литературный агент будет это делать, предлагать, ему будут приносить договор... Я просто не представляю. Но это интересно. Я совсем не хочу посвятить этому остаток жизни, – чтобы рекламировать чужие книги. Но затеять это дело, как-то пустить его, чтобы оно обрастало профессиональными людьми – не писателями, а именно литературными агентами, которые будут иметь вкус, будут иметь интуицию на то, чтобы найти автора, чтобы раскрутить книгу, дать ей соответствующую рекламу, напечатать её в том виде, в том издательстве <лучшем для неё>, продать ее. Это профессия! Специальная профессия.
Самуил Лурье: – Совершенно новая!
Александр Житинский: – Новая, которой у нас просто нет, и я думаю, что именно писатели, лишённые всю жизнь этой необходимой помощи себе и испытавшие всю бездну неловкости и унижений, хождения по редакциям, общения... Не говоря о том, что как-то неудобно торговаться о гонораре писателю. А литературный агент будет делать это, потому что это его заработок. Вот предлагают тебе: «Столько мы тебе заплатим» – «Да, конечно, почему бы нет, хотя, с другой стороны, почему бы не больше?» Это дело литературного агента, а не писателя.
Самуил Лурье: – Я вам, конечно, завидую. Тут Саша сказал замечательно всё, что нужно про литературные агентства, и мне остаётся добавить в ответ на его реплику, что бывают такие чисто советские профессии. Например, человек, который занимается дублированием кинофильмов. Этого больше нигде в мире нет и никому это не нужно: чтобы человек, говоря по-немецки, в то же время как бы говорил по-русски. Есть другая советская профессия: стихотворный переводчик. Когда нужно обязательно, чтобы стихотворное произведение было передано стихами, с рифмами, с образами – это тоже невозможно и получается нечто совершенно другое, хотя иногда очень хорошее. Я всю жизнь занимался тоже чисто советской выдуманной никому не нужной, наверное, профессией редактора: то есть это часто бывал человек, который из очень плохой прозы делает просто плохую, как правило.
Борис Стругацкий: – Вполне приличную...
Самуил Лурье: – Иногда приличную, да. И в высших своих проявлениях этот профессионал не бежал писать донос на попавшуюся ему случайно хорошую прозу. И так далее. А вот Саша занялся какой-то совершенно новой и сугубо несоветской профессией, создавая литературные агентства и так далее. Но я хочу сказать, что есть всё же самая древняя, самая высокая, самая замечательная профессия, в которой вы оба являетесь мастерами. Я хотел бы как можно скорее и как можно больше прочитать ваших новых книг. Потому что всё замечательно, вам нужно быть просто в форме, быть здоровыми и весёлыми (для чего сейчас есть как будто основания) и на свободе и писать не хуже, чем когда всё было почти наоборот.
Борис Стругацкий: – Удивительно, что Саня совершенно не затронул сакраментального сегодняшнего вопроса, который задают все интервьюеры. Что случилось с современной литературой? Где современная литература?
Самуил Лурье: – А что же я буду спрашивать, когда современная литература сидит передо мной.
Борис Стругацкий: – Не совсем так. Я ждал этого вопроса...
Самуил Лурье: – Да на фиг! Кому это интересно? Ну, что, я считаю, всё было очень интересно. Как слушателю? (оператору).
Оператор: – Чудесно.
Борис Стругацкий: – Слушатель, наверное, не слушал – он работал.
Оператор: – Нет, почему же.
(обрыв плёнки, неразборчиво)
Самуил Лурье: – (неразборчиво) ...ничего не остаётся – только поддакивать. А нужно задать такие вопросы, чтобы они волновали человека, и чтобы ему хотелось про них чуть-чуть побольше поговорить. Не знаю, справился ли я с этим...
Борис Стругацкий: – Я не могу сказать, что хотелось говорить, но поскольку была некоторая необходимость говорить, то я говорил с удовольствием.
Александр Житинский: – Из Сашиных вопросов чувствовалось, что ему это действительно интересно.
Борис Стругацкий: – Во всяком случае, он хорошо это сыграл.
Самуил Лурье: – Нет, мне действительно было интересно.
Борис Стругацкий: – Я к Саше отношусь с огромным подозрением. Я знаю этого человека...
Самуил Лурье: – Борис Натанович всё время боится, что я умнее, чем я есть.
(смеются)
Борис Стругацкий: – Я не боюсь, потому что бояться здесь совершенно нечего. И речь идёт не об уме совсем.
Самуил Лурье: – «Надеется», скажем так.
Борис Стругацкий: – Нет, не об уме речь здесь идёт, а о том, что вы...
(конец плёнки)
Расшифровку подготовили Илья СИМАНОВСКИЙ, Татьяна ЕРЕМЕЕВА, Евгений СМИРНОВ, Светлана МИРОНОВА
Выложено с любезного разрешения Марианны ЛУРЬЕ, Елены ЖИТИНСКОЙ и Андрея СТРУГАЦКОГО
|