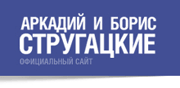|
История вторая
СУЕТА СУЕТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.
«Методика преподавания литературы»
Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.
– Привалов, – сурово сказал он, – почему вы опять не на месте?
– Как это не на месте? – обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.
– Вы это прекратите, – сказал Модест Матвеевич. – Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.
– Елки-палки, – сказал я и повесил трубку.
Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.
Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.
– Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулс, – произнес Модест. – Никогда вас нет на месте.
С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» – и щелкнул каблуками.
– Все должны быть на своих местах, – продолжал Модест Матвеевич. – Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.
– Больше не повторится! – сказал я, выкатив глаза.
– Вы это прекратите, – сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. – Так вот, Привалов, – сказал он наконец, – сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников – занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых – противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды... – Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. – А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Всякие там другие души – пусть, но живой души чтобы ни одной. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цен-дент: сбежал черт и украл луну. Широко известный прен-цен-дент, даже в кино отражен. – Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.
Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес:
– Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай – прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?
– Вполне, – сказал я.
– Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.
– Вас понял, – сказал я и проглядел список.
Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим – товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.
– Что-нибудь недоступно? – осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.
– Вот тут, – сказал я веско, тыча пальцем в список, – наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати двух экземпляров, лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. – Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: – Во избежание.
Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.
– Все верно, – сказал он снисходительно. – Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?
Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.
– Занимайте свой пост, – величественно сказал Модест Матвеевич. – Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.
Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.
Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. Первым делом заговорю демонов, подумал я.
У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.
– Ну? – сказал грубый Корнеев, останавливаясь.
– Я сегодня дежурю, – сообщил я.
– Ну и дурак, – сказал Корнеев.
– Грубый ты все-таки, Витька, – сказал я. – Не буду я с тобой больше общаться.
Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.
– А что же ты будешь? – спросил он.
– Да уж найду что, – сказал я, несколько растерявшись.
Витька вдруг оживился.
– Постой-ка, – сказал он. – Ты что, в первый раз дежуришь?
– Да.
– Ага, – сказал Витька. – И как ты намерен действовать?
– Согласно инструкции, – ответил я. – Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?
– Да собирается там одна компания, – неопределенно сказал Витька. – У Верочки... А это у тебя что? – Он взял у меня список. – А, мертвые души...
– Никого не пущу, – сказал я. – Ни живых, ни мертвых.
– Правильное решение, – сказал Витька. – Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.
– Чей дубль?
– Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.
Я взял ключ.
– Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.
– Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?
– Не встречал, – сказал я. – И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.
– А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.
Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.
– Так, – произнес он, увидев нас.
Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.
– Прошу, – сказал он, подавая мне ключи. – Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... – Он поколебался. – Я с вами не беседовал вчера?
– Да, – сказал я, – вы заходили в электронный зал.
Он покивал.
– Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...
– Нет, – возразил я почтительно, – не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.
– Ах вот как, – сказал он. – Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?
Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так», и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. Я даже подозревал, что это просто метафора.
А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался – видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.
В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче – царе Грозном опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче – царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче – царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с теми коллегами, которые базой счастья полагали довольство.
– П-приветствую вас! – пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. – Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...
Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.
– Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...
– Что вы, Федор Симеонович, спасибо! – вскричал я. – Не надо! Я тут как раз поработать собрался!
– Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...
Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.
– П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как – х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-попозже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... Аз-зимова там, или Б-брэдбери...
Он подошел к окну и сказал восхищенно:
– П-пурга, черт возьми, л-люблю!..
Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.
– А, К-кристо! – воскликнул он. – П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомянем старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...
Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:
– Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...
– Н-ну еще бы! – загремел Федор Симеонович. – М-много крови, много п-песней за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...
– Именно, – сказал Хунта. – И потом – я не терплю благотворительности.
– Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?
– Нас ждут, Теодор, – напомнил Хунта.
– Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.
– В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, – негромко сказал Хунта. – Особенно новички.
Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Звезда вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.
Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором, но потом впал в ересь, хотя и по сию пору сохранил тогдашние замашки, весьма впрочем пригодившиеся ему, по слухам, во время борьбы против пятой колонны в Испании. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались – на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС, в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, – тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше – всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.
Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.
– Эта... – сказал он, приближаясь. – У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.
Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.
– Куда брякнуть-та? – спросил я.
Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было бы смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл – боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают и ежели, значить, дать человеку все – хлебца, значить, отрубей пареных, – то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, нещадно опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, и модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым – он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.
– Куда брякнуть-та? – спросил я.
– Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милай. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нес па *?
* Не так ли? (Франц.) Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (Примечание авторов.)
– Я знаю, что домой. По какому телефону?
– А ты, эта, в книжечку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжечку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс *.
* В массе, у большинства (франц.).
– Хорошо, – сказал я. – Брякну.
– Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви *.
* Такова жизнь (франц.).
Я набрался храбрости и буркнул:
– А ведь мы с вами на брудершафт не пили.
– Пардон?
– Ничего, это я так, – сказал я.
Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:
– А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар *, значить.
* До свидания (франц.).
Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:
– Выбегалло забегалло?
– Забегалло, – сказал я.
– Н-да, – сказал он. – Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.
Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.
– А ну-ка, займись, – сказал он. – Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура... – Он оглядел комнату. – Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!
Я почесал за ухом.
– Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистатум какой?
– Ну, брат, – сказал Ойра-Ойра, – это ты сам должен...
Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.
– Плохо, – с упреком сказал Ойра-Ойра. – Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?
– А, – сказал я, – верно. – Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем уже собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.
– Посредственно, – сказал он. – Займемся материализацией.
Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, – говорил он. – А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу – большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.
Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и наконец совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса как аргумента достаточно произвольной функции сигма не вполне представимого человеческого счастья».
Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное – понять, что это такое и где его искать.
Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза – я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, – я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне как к представителю точных наук Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).
Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:
– Я еще одно определение нашел.
– Какое? – спросил я.
– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?
– Конечно, хотим, – сказал Роман.
Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:
Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.
– Ничего не понял, – сказал Роман. – Дайте я прочту глазами.
Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:
– Это Кристофер Лог. С английского.
– Отличные стихи, – сказал Роман.
Магнус Федорович вздохнул.
– Одни одно говорят, другие – другое.
– Тяжело, – сказал я сочувственно.
– Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?
– Вряд ли, – сказал я. – Я бы не взялся.
– Вот видите! – подхватил Магнус Федорович. – А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?
– А может, его вообще нет? – сказал Роман голосом кинопровокатора.
– Чего?
– Счастья.
Магнус Федорович сразу обиделся.
– Как же его нет, – с достоинством сказал он, – когда я сам его неоднократно испытывал?
– Выменяв пенни на шиллинг? – спросил Роман.
Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.
– Вы еще молодой... – начал он.
Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!» – и выбежал вон.
– Good God! – сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. – Canst thou not come in by usual way as decent people do?.. Sir *, – добавил он.
* Господи! Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека?.. Сэр (англ.).
– Beg thy pardon *, – сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.
* Прошу прощения (англ.).
Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:
– Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?
– Предсказанные, – сказал Роман.
– Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!
– Полезная вещь – радио, – сказал Роман.
– Я радио не слушаю, – сказал Мерлин. – У меня свои методы.
Он потряс подолом мантии и поднялся на метр над полом.
– Люстра, – сказал я, – осторожнее.
Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:
– О вы, пропитанные духом западного материализма, низкого меркантилизма и утилитаризма, чье спиритуальное убожество не способно подняться над мраком и хаосом мелких угрюмых забот... Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...
Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии же, в связи с изменением внутренней обстановки и потеплением международного климата, он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений – и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с ней занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на республиканской Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.
Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.
– Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». – «Не беда, – сказал ему Мерлин, – я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука, мозолистая и своя, и в той руке серп и молот. И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о котором я говорил тебе...»
Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.
– Алло, – сказал я. – Алло, вас слушают.
В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «...И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»
– Сэр гражданин Мерлин, – сказал я. – Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.
Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.
– Алло, – снова сказал я в трубку.
– Кто у аппарата?
– А вам кого нужно? – сказал я по старой привычке.
– Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.
– Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.
– Вот так. Докладывайте.
– Что докладывать?
– Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему, в нарушение трудового законодательства, в институте после окончания рабочего дня находятся люди?
– Это Мерлин, – сказал я.
– Гоните его в шею!
– С удовольствием, – сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» – и растаял в воздухе.)
– С удовольствием или без удовольствия – это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.
Выбегалло донес, подумал я.
– Вы почему молчите?
– Будет исполнено.
– В таком вот аксепте, – сказал Модест Матвеевич. – Бдительность должна быть на высоте. Доступно?
– Доступно.
Модест Матвеевич сказал: «У меня все», – и дал отбой.
– Ну ладно, – сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. – Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.
[Предыдущая часть] Оглавление [Следующая часть]
|