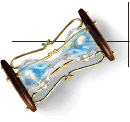
|
|

|
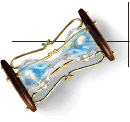
|
|
|
Сергей ЯЗЕВ ТРИ БЕСЕДЫ С БОРИСОМ СТРУГАЦКИМ 28 апреля 1994, Санкт-Петербург
Дверь открылась, и мы вошли. Нам пожал руки высокий пожилой человек,
фамилия которого известна миллионам. Писатель Борис Стругацкий. Звездный
астроном по образованию, «вычислитель» по природе – как он
сам себя назвал в конце нашей беседы, писатель, философ, социолог, футуролог
по призванию. Человек, который вместе со своим, к огромному несчастью,
уже умершим старшим братом Аркадием, образовывал писателя «братья
Стругацкие», входящего, по мнению писателя А.Мирера, в пятерку наиболее
значительных прозаиков второй половины ХХ века. Проходим в комнату, известную
мне по фотографиям. Высокие стеллажи с... Бог мой, какими книгами!..
Широкий стол с персональным компьютером. Кресла. Диван. Журнальный столик.
Я усаживаюсь на диван и начинаю возиться с диктофоном, который, визит-эффект ,
мгновенно отказывает. Огромный кот Калям – прямо из квартиры Дм. Малянова
(А. и Б. Стругацкие, «За миллиард лет до конца света»), – дерет
когтями мою папку в открытом дипломате на полу. Техника, наконец, поддается.
Вытираю пот со лба, облегченно вздыхаю. Показываю Борису Натановичу повести
Стругацких, изданные Восточно-Сибирским издательством («Да, спасибо,
у меня есть «музейный» экземпляр...»).
Итак,
БЕСЕДА ПЕРВАЯ
Участники – этой и последующих бесед: Борис Натанович СТРУГАЦКИЙ, писатель;
Вадим Николаевич КАРПИНСКИЙ – доктор физ. мат. наук, специалист по солнечной
астрофизике, знаком с Б.Стругацким на протяжении сорока лет; Сергей ЯЗЕВ,
коллега
В.Н.Карпинский по солнечной физике, кандидат физ.мат. наук, журналист:
Я включаю диктофон...
Б.С.: Давайте, Сергей, будем общаться в форме свободной беседы. Мы все
будем говорить, а потом Вы перенесете это на бумагу и сделаете, что Вам
надо. Это ведь не для радио?
С.Я.: Нет, конечно! Давайте так и сделаем. Я думаю, что можно будет
придерживаться тех вопросов, которые я передал Вам заранее. Так, наверное,
будет удобнее...
Б.С.: Да, можно и так.
С.Я.: Тогда, с Вашего позволения, я воспроизведу свой первый вопрос.
В начале шестидесятых годов тема мещанства и духовности постоянно присутствовала
в произведениях Стругацких. Герой Ваших ранних повестей Иван Жилин провозгласил,
что мало перестать хотеть быть рабом, надлежит прекратить хотеть стать
хозяином. Легко заметить, что этот тезис противоречит пропагандируемому
сегодня менталитету. Изменилось ли Ваше отношение к проблеме за последние
тридцать лет?
Б.С.: Ну, Вы знаете, для того, чтобы относиться по справедливости к тому,
что произошло с нами, братьями Стругацкими, как с авторами, надо все-таки
начать сначала, с середины пятидесятых годов, когда мы только начинали
писать. Ведь это были совершенно другие люди! Люди, которые начинали писать
«Страну багровых туч» – это были не совсем те люди, которые писали
«Стажеры», и уж это были совсем не те люди, которые писали
даже «Трудно быть богом». Вот за эти семь, или даже меньше, пять
лет произошла коренная ломка мировоззрений двух тогда еще сравнительно
молодых советских писателей. Ведь надо отдавать себе ясный отчет в том,
что мы были детьми своего времени. Аркадий Натанович был кадровый офицер.
Он закончил институт – военный институт иностранных языков! Из него готовили
военного переводчика. Он был офицером, лейтенантом, и служил в армии после
окончания института, я сейчас не помню,
лет десять. Кадровый офицер, комсомолец, со всеми вытекающими отсюда идеологическими
последствиями. Борис Стругацкий – это был студент, окончивший университет,
сдавший неописуемое количество экзаменов по основам марксизма-ленинизма,
а потом всяких там кандидатских экзаменов по тем же самым основам. Это
были идеологически подкованные, настоящие советские люди. Еще вчера мы
были безусловными и отпетыми сталинистами и готовы были во имя вождя
всех народов и сами умереть и других убивать. Слава Богу, что не довелось
ни того, ни другого делать, но послали бы партия и товарищ Сталин – и пошли
бы, и умирали бы, и убивали. И вот после смерти Сталина, пятьдесят четвертый
– пятьдесят пятый годы, начинает происходить разлом страны, начинают выплывать
страшные, мрачные тайны, о которых мы до сих пор если что-то и знали, то
только понаслышке, и по поводу этих тайн находились в том классическом
состоянии, которое Оруэлл описал в «1984 » – «double think»
– двоемыслия. Когда человек одновременно верит в две противоположные
истины. Ведь у нас и дядя был в тридцать седьмом году расстрелян, это называлось
«десять лет без права переписки», и отец был в тридцать
седьмом году исключен из партии и так до конца и оставался беспартийным.
И, с одной стороны, мы прекрасно знали, что дядя, а тем более отец – безукоризненно
честные, замечательные советские люди, настоящие большевики!...а с другой
стороны, мы точно так же твердо знали, что органы не ошибаются. И значит,
надо было каким-то образом в сознании вот эти две истины держать так, чтобы
они никогда не встречались вместе. Это, собственно, и есть искусство двоемыслия...
И вот – пятьдесят шестой год, двадцатый съезд партии, когда дураков ткнули
в кровь, в грязь, в мерзости сталинизма, и они начали, изумленно хлопая
глазами, что-то там понимать. Но в самом начале, даже уже переставши быть
сталинистами, мы оставались марксистами. Мы свято исповедовали основную
позицию идеи Маркса о том, что коммунизм неизбежен, и достичь коммунизма
можно только одним способом: надо уничтожить частную собственность. Как
только частная собственность будет уничтожена, как только все орудия
и средства производства будут принадлежать пролетариату, только тогда
начнется восхождение человечества к
ступени своего развития – к социализму. В это мы верили безусловно
и продолжали верить еще очень долго, даже и после пятьдесят восьмого – пятьдесят
девятого года. Мы усомнились в этой идее только в середине шестидесятых
годов! Там уже мы начали задавать друг другу и своим друзьям недоуменные
вопросы... Вот интересно, Вадим, ты помнишь, ведь мы с тобой много на эти
темы говорили, когда в Пулковской обсерватории ты жил еще в гостинице!
Я часто оставался ночевать у тебя, и мы много спорили с тобой и с Димкой
Корольковым о том, что такое коммунизм, возможен ли он, могут ли современные
люди быть членами коммунистического общества... Детали я уже забыл...
В.К.: Я это не очень помню.
Б.С.: Ты тоже не очень помнишь?
В.К.: Дело в том, что у меня было по-другому. В сорок восьмом году я
прошел некую школу, которая меня от всего этого отучила. Я работал изыскателем
на железной дороге...
Б.С.: То есть ты был подготовлен?
В.К.: Я был подготовлен. Объем и глубину происходящего в полной мере
я, конечно, не представлял. Но, так как я работал рядом с заключенными
и видел, как гнали эшелоны... и просто у меня были учителя, которые считали,
что вершиной всего был НЭП. Такие интеллигенты, прошедшие войну. Сталина
они называли «отец родной», партию – «кормушкой»,
и это открыто, за самоваром.
Б.С.: У тебя глаза были открыты.
В.К.: Да. Я говорю, что глубины и объема я, конечно, не чувствовал. Они
оказались на порядок больше, чем казалось.
Б.С.: Но все-таки ты видел, что это – нужник! Так вот, а я этого не видел!
Я даже не видел, что это нужник. Понадобились еще годы и годы.
В.К.: Поэтому я буквально на три года вступил в комсомол...
Б.С.: Ну, это уже автоматизм.
В.К.: Нет, я вступил на третьем курсе.
С.Я.: В конце семидесятых годов я еще искренне верил во все это. Я, конечно,
видел сплошной маразм и совершенно недееспособное пожилое лицо у власти,
но считал, что это все частности, что надо заменить этих деятелей...
Б.С.: Одних убрать, других поставить...
С.Я.: И я пытался увидеть в маразме какой-то здравый смысл.
В.К.: Например, я видел такое. Идешь по лесу, перед тобой – острог.
Там – пятьдесят заключенных женщин. И четыре таких вот бугая – охрана.
Со всеми вытекающими последствиями.
Б.С.: Да. Так вот, я прервался... И вот, это были молодые люди, которые,
как казалось, видели определенные, очень светлые перспективы у человечества
– коммунизм... Что такое коммунизм? Ведь представление о коммунизме, которое
сложилось у нас тогда, где-то в середине пятидесятых, и то представление о
коммунизме, которое мы имеем сегодня, – они же не отличаются друг
от друга! Но произошли страшные, трагические события! Слово
«коммунизм» стало ругательным. Сначала оно стало бранным во
всем мире, потом
оно стало ругательным даже у нас! Самое смешное, что даже в годы застоя
– уже начиная с восьмидесятых, – этого слова избегало даже начальство,
вот что интересно! Я помню, мы были потрясены, когда, один раз в одном
издательстве, другой раз в другой редакции, нам говорили: знаете, давайте
не будем этого слова употреблять!.. – Почему? Как? – говорили мы... На самом-то
деле, что такое коммунизм? Коммунизм – это действительно справедливое
общество, в котором основой всего является творческий труд, где каждый
человек делает то, что он умеет и любит делать, и располагает при этом
всем необходимым в материальном смысле, считая тем не менее духовные
потребности
гораздо более высокими, чем материальные. Вот что такое коммунизм! По сути
дела, это общество действительно прекрасное! И когда мы писали, скажем,
«Возвращение» и «Стажеры», мы делали это совершенно
искренне. Другое дело, что уже тогда мы перестали понимать, как к этому
обществу прийти. Вот тут-то появилась некая пропасть между той реальностью,
которая нас окружала, и тем миром, который мы себе так хорошо представляли,
как мы его называли, «миром, в котором нам хотелось бы жить». И вот полное
прозрение наступило, знаете, году в шестьдесят втором. Как это ни смешно,
толчком послужила знаменитая встреча, Вы-то, Сергей, ее не знаете, а вот
Вадим, может быть, помнит, – знаменитая встреча товарища Хрущева и руководителей
партии и правительства с
творческой интеллигенцией на выставке в Манеже. Тогда мы вдруг поняли:
нами же управляют жлобы! Нами управляют люди, которые не только ничего
не понимают в искусстве – ни в литературе, ни в живописи, ни в архитектуре, –
они не хотят ничего понимать! У них одна задача – топтать все это, все,
что им непонятно, топтать носорожьими копытами! Вот это мы поняли, и тогда
трагический вопрос перед нами действительно встал во весь рост: как от
того, что окружает нас, перейти к тому миру, в котором мы хотели бы жить?
И я помню, мы посвятили несколько романов, по сути дела, этому, разбирая
эту проблему. Ну конечно, в то время нельзя было об этом говорить открыто,
все это писалось эзоповым языком. Тогда мы писали «Хищные вещи века»,
«Попытку к бегству», «Трудно быть богом» – это все
были романы о том, как все-таки перейти от фашиста к коммунару, как это
сделать. Так что, возвращаясь к Вашему вопросу, – конечно, у нас кардинальным
образом изменился менталитет. Конечно, уже в середине шестидесятых
и тем более в конце шестидесятых годов мы поняли, что Маркс и Энгельс совершили
чудовищную теоретическую ошибку – это отказ от частной собственности.
Уже было совершенно ясно, что это неправильно, что в реальных условиях
отказ от частной собственности приводит к загниванию государства, загниванию
нравственности, морали, всеобщему загниванию и стагнации. Это стало ясно,
и весь этот процесс протекал прямо у нас на глазах. Потому что стремление
к обладанию частной собственностью, стремление быть собственником – это,
по сути, один из главнейших движителей человеческой деятельности! Конечно,
это прекрасно, когда человеком движет жажда творчества. Это блистательно,
но это далеко не каждому дано! Конечно, прекрасно, когда человеком движет
энтузиазм – замечательный движитель человеческой деятельности, – но уж
так люди устроены, что энтузиазм не может длиться годы. Ну месяц, ну
два, ну три, а потом начинают срабатывать уже другие психические механизмы.
И получается, что единственным движителем человеческой плодотворной
деятельности
является стремление к обладанию – обладанию материальными благами, в конечном
итоге, к обладанию частной собственностью. Без этого просто ничего не выйдет,
без этого все останавливается. Потому что, отними у человека материальный
интерес, и он перестает
работать, что мы наблюдали на протяжении долгих-долгих лет, и результаты
этого мы наблюдаем сейчас, когда громадная, стапятидесятимиллионная
страна не хочет работать. Просто не хочет! Не хочет и не умеет. Не видит в
этом смысла. В этом ведь главная трудность, с которой
встречается страна сегодня. Так что, конечно, менталитет наш изменился самым
крутым
и серьезным образом, но для этого понадобилось тридцать лет. Для этого
понадобилась целая жизнь... Нам повезло в том смысле, что наш менталитет
менялся одновременно с менталитетом интеллигенции вообще. Интеллигенция
умнела – мы умнели; интеллигенция была глупой – мы были глупые. Все происходило
очень естественным образом. Поэтому, когда я сейчас задним числом вспоминаю
нашу жизнь, я думаю, что нам, в общем, в данном смысле, очень здорово
повезло: когда общество начало умнеть, мы дураками не остались, а это ведь
была судьба многих людей. Они не поняли, что общество умнеет, они не поняли,
что мир меняется, и остались дураками. С другой стороны, нам повезло в
том смысле, что мы никогда не обгоняли этот процесс. Потому что, если
бы мы его обгоняли, то нас, наверное, давным-давно сгноили бы в лагерях.
Все происходило очень...
С.Я.: Гармонично.
Б.С.: Гармонично. Вот так бы я ответил на Ваш первый вопрос.
С.Я.: Второй вопрос, если Вы помните, примыкает к первому. В нем речь
шла о способах, методах смены старого и нового. В Вашей повести «Гадкие
лебеди» старое бежит, освобождая место новому, столкновение практически
не происходит. В киносценарии «Туча» говорится прямо: «будущее
не собиралось никого карать. Будущее шло своей дорогой». Но бывает ли так
в реальной жизни? На практике, как показывает
пример двух путчей и декабрьских выборов, борьба оказывается нешуточной...
Б.С.: Видите ли, в «Гадких лебедях», насколько я помню, мы
как раз попытались описать процесс, по сути дела, фантастический, процесс
небывалый. Это ситуация, когда новое настолько сильнее старого, что может
позволить себе не обращать на него внимания.«Догнивайте себе в
своих резервациях!» – говорит будущее. –«Мы не будем вам мешать.
Живите так, как жили раньше. Хотите вместе с нами идти в будущее – мы будем
рады. Не хотите – оставайтесь в прошлом. Но вмешательства мы, конечно,
не потерпим.» И мощь нового настолько велика, что вмешательство
старого оказывается невозможным. В реальной жизни, конечно, ничего подобного
происходить не может. Потому что, все-таки, что такое ситуация «Гадких
лебедей»? Это вторжение из будущего. Это люди, пришедшие из будущего,
пытаются изменить настоящее для того, чтобы изменить будущее, понимаете?
Поэтому они неимоверно сильнее того мира, в котором они оказались. В
реальном мире новое обычно слабее старого. Новое сильно именно своей новизной,
перспективностью. Зато старое обладает более накачанными мышцами и очень
любит входить в прямой контакт, лезет в драку – оно вдобавок агрессивно,
в отличие от нового! Поэтому, конечно, в реальности так никогда не
будет. Сшибка старого и нового совершенно неизбежна. Надо Бога молить
и приложить все усилия к тому, чтобы эта сшибка не стала кровавой. Чтобы
это все оставалось на уровне борьбы идеологий, борьбы парламентской,
без перехода к баррикадным боям.
В.К.: Но здесь речь идет о новом и, так сказать, хорошем. Если новое
вырастает в рамках старого, еще слабенькое – это одно. Второе – если новое
уже сильное и приходит со стороны. К примеру – к индейцам пришли...
«колумбяне».
Это новое было много сильнее, и вот что оно сделало... Я не могу найти
примера в земной истории, когда сильное новое приходило бы со стороны,
будучи «хорошим».
Б.С.: Мне странно, что ты не можешь найти! Случай с Колумбом – это, конечно,
неестественно, крайний случай. А вся колонизация, при всех, между прочим,
издержках, все-таки привела к прогрессу тех племен, с которыми столкнулись
колонизаторы. Посмотри на Индию, какой она сделала гигантский шаг вперед!
Посмотри на Японию, куда внедрилась, – она внедрялась, правда, осторожно,
медленно, без борьбы, тихой сапой, – европейская цивилизация.
В.К.: Ты считаешь, что инициатива была со стороны Европы, а не со стороны
Японии?
Б.С.: Понимаешь, европейцы принесли в Японию совершенно новые идеи, а
японцы взяли то, что им понравилось. Вот что на самом деле произошло. Причем
они взяли и плохое и хорошее, но только то, что им нравилось. Произошла
европеизация глубоко азиатской и глубоко
феодальной страны. Так что таких примеров на самом деле довольно много. А
издержки были всегда. Новое вообще без издержек никогда не заменяет
старое. Хорошо, теперь другая ситуация, о которой ты говорил, когда новое
приходит изнутри. Развитие капитализма в мире! Был феодализм – глухой,
тупой, беспросветный. Выяснилось, что он неэффективен экономически. Выяснилось,
что должны существовать другие отношения. Выяснилось, что холоп и раб работают
плохо, дают маленький навар. Свободный человек работает лучше, вот ведь
что выясняется методом проб и ошибок! И вот наступает капитализм, приходят
новые отношения между работодателем и наемным рабочим, скачок в
производительности
труда, начинается быстрое развитие промышленности, но какой ценой! Мы
сейчас уже все это забыли. А почитайте, скажем, Драйзера...
В.К.: Куприна...
Б.С.: Ну, в России как раз это не очень быстро вторгалось, потому что
здесь огромную сдерживающую роль играли царизм, монархия, остатки
крепостничества.
В России трудно шел этот процесс. Но если взять Англию, Германию, США –
это же было мучение неописуемое! Это толпы безработных, толпы людей,
вчерашних холопов, которые худо-бедно кусок хлеба от барина всегда имели...
С.Я.: Некий гарантированный минимум...
Б.С.: Их вышвырнули на улицу, дали свободу – живи, как хочешь! А они
не знают, как жить, они не умеют. Это то, что сегодня в нашей стране происходит.
Полная аналогия. И хотя вот это новое произрастало изнутри строя, никто
не привносил капитализм со стороны ни в Германии, ни в Соединенных Штатах,
новые отношения произрастали внутри данных государств, тем не менее мучений
было более, чем достаточно. Новое не приходит без мук. Это как роды. Роды
всегда – это боль, кровь, мучения, крик... Но потом появляется ребенок!
С.Я.: Борис Натанович, еще один вопрос. Недавно одна моя знакомая, неплохо,
насколько я могу судить, знающая творчество Стругацких...
Б.С.: Да, напомните вопрос. Я что-то такое помню...
С.Я.: Она сказала: методы воспитания, предлагаемые Стругацкими, антигуманны.
Ибо предполагают отъем ребенка от родителей и передачу в руки посторонних
учителей: интерната, лицея, мокрецов. Что бы Вы ей ответили?
Б.С.: Я встречался с такой точкой зрения. Почему-то ее часто высказывают
именно дамы, мужчины как-то спокойнее к этой идее относятся... Но я ей
могу сказать только, Вашей знакомой, – и всегда говорил, и сейчас отвечу.
Проблема гуманности в данном конкретном случае не так проста, как кажется
на первый взгляд. С одной стороны, отнять ребенка у родителей и отдать,
казалось бы, чужим дядям и тетям, – противоречит всем нашим представлениям
о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но с другой-то стороны, оставлять
ребенка в этой коммуналке, где папа пьет, как свинья, а мама скандалит
на кухне и дерется с соседями... А если говорить обобщенно, как можно
такой тонкий процесс, как воспитание ребенка, отдавать любителю? Конечно,
существуют родители, которые являются воспитателями, что называется, от
Бога. Талантливые родители. Их очень мало! Это очень маленький процент,
ну, дай Бог, одна пара из десяти. Это самое максимальное! Может быть, их
гораздо меньше – одна пара из пятидесяти, из ста. Ведь мы же не идем лечиться
к любителю! Верно? Мы не идет к любителю, чтобы нам сделали, – я не знаю,
что... Колбасу...
С.Я.: Да что угодно.
Б.С.: Мы все-таки стараемся получать все эти услуги от профессионалов.
А в таком наиважнейшем деле, как воспитание ребенка, мы отдаемся на волю
случая. На волю любителей! Наше глубочайшее убеждение заключается в том,
что воспитанием детей должны заниматься профессионалы. Люди, специально
к этому подготовленные. Люди, обладающие соответствующим талантом. Люди,
отдающие этому делу всю свою жизнь. Вот три условия, необходимые для того,
чтобы получился Человек Воспитанный. Ведь с проблемой образования мы
худо-бедно справляемся. Но с проблемой воспитания во всем мире полный
кабак. Мы умеем дрессировать людей. Это мы доказали много раз. Всевозможные
спецотряды, рейнджеры там, я не знаю... десантники, «дикие гуси»,
наемники... Бойцовые Коты всех расцветок, – вот это мы умеем делать.
С.Я.: Иркутск без этого тоже не обошелся.
Б.С.: Да... Воспитать из человека штурмовика, боевика – мы умеем. Но
это не есть воспитание! Это есть дрессировка, дрессура. Но как
воспитать из человека доброе существо, умное, стремящееся к знаниям,
почитающее пищу духовную выше, чем пищу материальную, – это же специальная
работа должна быть проделана! Одна из главных задач – это найти в человеке
талант. Мы убеждены, что практически в каждом ребенке скрывается некий
талант, как правило, непонятный ни родителям ребенка, ни самому ребенку.
Некая искра Божья, некое дело, в котором данный мальчик и данная девочка,
выросши, будут более успешны, чем соседи. Не дрессировать человека, не
настраивать на определенный род деятельности, а найти то, к чему он наиболее
талантлив, вычленить это и помочь развить. Вот главная задача воспитания! Но
это надо уметь делать. Сейчас на это способны единицы из тысяч,
а может быть, из миллионов. Есть воспитатели от Бога. Но они действуют,
как правило, методом «тыка», интуитивно. Теории нет, и непонятно,
как эту теорию создать. А до тех пор, пока мы не создадим эту теорию, до
тех пор, пока мы не научимся с младых ногтей воспитывать в человеке добро
и стремление к знаниям, – до тех пор у нас не будет справедливого общества.
С.Я.: Борис Натанович, а не значит ли это, что этого не будет, я боюсь
говорить «никогда», ибо «никогда не говори никогда»... Но я, имея
некоторый опыт преподавания в школе, хочу сказать, что все-таки школа –
это в очень небольшой степени воспитание. Это прежде всего знания...
Б.С.: Школа дает образование, но не дает воспитания.
С.Я.: Да и образование-то порой, прямо скажем...
Б.С.: Это, по крайней мере, известно, как делать. Методики существуют.
А методики воспитания – не существуют! То есть, Вы хотите сказать, что
Вам положение кажется бесперспективным?
С.Я.: Не то, чтобы совсем, но, во всяком случае, в высшей степени затруднительным.
Б.С.: Я с Вами спорить не буду. Я просто повторю то, что я уже сказал:
если нам не удастся эту теорию создать, мы никогда не создадим справедливого
общества. Всегда общество будет потрясаемо жлобами, хамьем, напористыми,
агрессивными людьми, для которых материальное важнее духовного и для которых
власть важнее всего на свете.
С.Я.: Вы не видите на сегодняшний день каких-либо концепций, идей, которые
могли бы привести к созданию этой теории?
Б.С.: Я, к сожалению, совершенно не имею контактов с людьми, которые
пытаются этим заниматься. А то, что мне приходится читать, и те педагоги,
которых я слышу иногда по телеку, по радио, они наводят только на грустные
мысли. Хотя я знаю множество практиков, в которых искра Божья есть. Но
это единицы, разбросанные, затерянные в огромной толще равнодушных и
малокомпетентных
людей. Так что положение очень тяжелое, на самом деле.
С.Я.: И распределение, о котором Вы когда-то писали, относительное количество
хороших и плохих людей, – оно не меняется, по-Вашему?
Б.С.: По-моему, нет. Это величайшее заблуждение, красивое заблуждение
нашей юности... Не меняется распределение. Процент, относительное количество
добрых и честных людей – тот же, какой был и тысячу лет назад. Процент
негодяев ... (К сожалению, кассета кончилась, а неисправный диктофон не
позволил ее быстро перевернуть).
С.Я. Борис Натанович, если это возможно,
добавьте, пожалуйста, хотя бы несколько фраз, чтобы закончить мысль.
Я рискнул заменить слово «гауссиана» более понятным массовому
читателю газеты термином...
Звонит телефон, и Борис Натанович снимает трубку. Я пользуюсь этим,
чтобы перевернуть кассету в диктофоне. Становится все интереснее.
продолжение следует
БЕСЕДА ВТОРАЯ
Вторую беседу начинает В.Н.Карпинский. Он продолжает тему предыдущей
беседы, и сначала мне кажется, что логика разговора, намеченная предварительно,
нарушается. Но получается иначе, и я глубоко благодарен Вадиму Николаевичу
за новый поворот беседы.
В.К.: Борис, я так тебя понял, что ты считаешь, что сейчас лидерами
страны должны стать люди, ставящие во главу угла, так сказать, капиталистические
ценности, материальное благополучие – вместо старых коммунистических идеалов.
Они, эти люди, должны хорошо работать, производить, составляя своего
рода «аристократию» общества. Их надо оберегать, поддерживать.
Но можем ли мы считать их именно лидерами для страны?
Б.С.: Вадим, это совсем разные вещи. Эти люди, о которых ты сейчас говорил,
это разве лидеры? Для них главное – это получение материального достатка.
Они не являются ни творцами, ни энтузиастами...
В.К.: Ну, это трудно сказать...
Б.С.: Их главная цель – «справно жить». Ну, как, это нормальное
желание человека на протяжении многих веков – справно жить, жить, ни в
чем не нуждаясь, чтобы все было, как у людей, а желательно – лучше, понимаешь?
Детям дать образование, старики чтобы у тебя в доме не знали трудностей
никаких, чтобы сам ты, когда состаришься, тоже был бы и при деньгах, и
при доме – это нормально...
В.К.: С моей точки зрения, это не настоящие лидеры и не настоящая
элита – даже среди купечества. Для купечества в моем понимании лидер
– Третьяков.
Б.С.: Подожди, подожди. Ты немножечко тут, по-моему, смешиваешь разные
вещи. Да, вот мы выделили группу людей такого рода. Это – опора любого
дела, любого! Крестьяне в сельском хозяйстве, работяги в промышленности,
я не знаю... официанты,... вот этот слой людей, который хочет много вырабатывать
и много зарабатывать. Вот их задача. Какой ценой они хотят много зарабатывать?
Ценой того, что они много дают! Крестьянин дал много картошки, дешевой,
продал – заработал хорошо. Автослесарь хорошо обслужил много машин – выдал
свою продукцию и получил за это. Нефтяник выдал много дешевой нефти –
соответственно получил. Вот эти люди составляют на самом деле малую долю
населения России, дай Бог – десять процентов людей с таким вот менталитетом.
Знаешь, они не стремятся ни к каким там духовным подвигам. Их духовная
жизнь мало интересует. И пусть первым бросит в меня камень тот, кто скажет,
что это плохо. Елки-палки, все приходит в свое время! Они так воспитаны!
Слава Богу, что они хотят и умеют работать.
В.К.: Их и надо так воспитывать.
Б.С.: Воспитывать надо не так! Мы опять же говорим о реальности, о положении
дел. А вот они своих детей уже смогут отдать в специальные школы, где из
них воспитают не только человека, желающего и умеющего работать, но еще
и с менталитетом человека, желающего и умеющего познавать! Искать духовную
пищу, получать удовольствие от духовной пищи. Это дело завтрашнего дня,
нам не до того сейчас. У нас сейчас из десяти человек девять либо не
могут работать, либо могут, но не хотят. Вот в чем ужас! И опираться мы
должны на одного из десяти, на эти десять процентов. Другое дело, что
мировой опыт показывает – совсем не нужно такое количество, например, крестьян.
Не надо! В Америке их там то ли два, то ли три процента, этих фермеров,
они обслуживают всю Америку, да еще полмира кормят своим хлебом, кукурузой
и так далее. Ведь надо четко понимать – мы тут сидим за столом и говорим
про коммунизм, про теорию воспитания, про справедливое общество... А перед
Россией стоит проблема, которую в нормальных странах решили сто лет назад!
Понимаешь? Какая-нибудь ничтожная Швейцария или Люксембург, которых и
на карте-то не видно, решили все эти проблемы. А мы все одну не можем
решить. А решить ее надо! Это первое, что нам надо сделать, потому что,
если мы эту проблему не решим – никакие не решатся. Вот большевики как
считали – продовольственную проблему не решить, так по крайней мере в
космос слетаем. Была такая постановка вопроса. Это неправильная постановка
вопроса! Рано или поздно она выходит боком. Вот сейчас, например, она вышла
боком. И нам не надо повторять старые ошибки.
В.К.: Лет пятнадцать-двадцать назад в Индии стоял вопрос совершенно
жестко: либо построить телескоп, и тысяча человек умрет от голода,
либо не строить и купить продовольствие. И они строили. А сейчас у них
эта проблема уже не стоит.
Б.С.: Вадим, а люди умирали?
В.К.: Видимо, да.
Б.С.: Я считаю такую постановку вопроса просто безнравственной.
В.К.: И тем не менее, – я ничего не говорю, – но это так было! А сейчас
они достигли того, что их радиоастрономия превосходит нашу, и люди не умирают.
Причем, возможно, именно такая постановка вопроса, когда строят телескоп
(я фигурально выражаюсь, дело не в телескопе)...
Б.С.: Я понимаю...
В.К.: Возможно, она и сыграла свою роль. А если бы они тратились только
на продовольствие, может быть, тогда умерло бы на тысячу меньше, но
они умирали бы до сих пор!
Б.С.: Не знаю...
В.К.: Во всяком случае, когда у нас говорилось – лет двадцать назад
– тратить или не тратить деньги на науку...
Б.С.: Да никогда у нас так не говорилось! У нас этот вопрос решался
наверху. Было совершенно ясно, что огромное количество денег тратилось
на престиж. На престиж! Это даже не телескопы были, а именно престиж!
На знамена, на ордена. На гигантские стройки всевозможные, которые дают
ничтожную отдачу.
С.Я.: На тот же космос, в том числе...
Б.С.: На исследования космоса, построение гигантской армии, которая
не лезет ни в какие ворота – все именно из соображений престижа! Армия,
которая избыточна по отношению ко всяким задачам безопасности. Почему все
это происходило? У меня сильное впечатление, что это
происходило потому, что решались не те задачи, которые надо было решать,
а те задачи, которые можно было решить... Вот, понимаете, в чем дело, взять
и треть бюджета угрохать на построение атомной бомбы – это можно сделать
одним росчерком пера. А вот поднять сельское хозяйство – сколько ни пиши,
ничего у тебя не получится. И никакие деньги, которые так требует
агропромышленный
комплекс, не помогут. Потому что поднять производительность труда на
селе можно, только изменив отношения собственности. Это показывает пример
всего мира. Так вот, отношения собственности менять мы не хотели ни за
что. Мы готовы были на все, что угодно, но только не на это! И кушаем сейчас
в результате то, что нам подано на стол. И до тех пор, пока мы эти отношения
собственности не изменим, до тех пор, пока не получит волю, полную возможность
вкалывать мужик, который хочет вкалывать, до тех пор у нас ничего не
будет. И не помогут никакие телескопы, никакие теории воспитания, потому
что говорить в этих реальных условиях о теории воспитания, о справедливом
обществе – это так нелепо, как... Я помню, у нас глухой застой, понимаешь,
никто работать не хочет, да никто и не работает, а мы пишем статьи о
том, что, оказывается, если стены в цеху покрасить в зеленый цвет, то
производительность
труда повышается на полтора процента. Это данные очень важные, это очень
любопытный результат, он очень хорошо для упомянутой Швейцарии и для Чикаго,
но для нас это не играет никакой роли. Вот к чему я, собственно, все это
и вел.
С.Я.: Борис Натанович, Вы говорили о движителях человеческой деятельности.
У Фазиля Искандера я прочитал, что основной движитель в его понимании –
это стремление к творческому самовыражению. В нормальных социальных условиях
оно принимает нормальные формы, реализуясь в интересной работе, искусстве,
хобби,семье, наконец. В условиях же ненормальных, извращенных стремление
это приобретает и формы уродливые, выливаясь, например, в непомерную жажду
власти, национализм и так далее...
Б.С.: Да, я понимаю, я даже, по-моему, сам читал это у Искандера. Мне,
откровенно говоря, эта теория кажется немножко умозрительной, и она мне,
знаете, что сразу напомнила? Теорию Фрейда! О том, что вся человеческая
деятельность определяется этим самым либидо, пресловутым
либидо, которое принимает то такие, то этакие формы, и делает из
человека то гениального композитора, то маньяка – убийцу детей.
С.Я.: Другими словами, когда все многообразие мира человека сводится
к чему-то одному, – это не выглядит убедительным?
Б.С.: Да! Начинаются некие красивые, может быть, но все-таки достаточно
сомнительные обобщения и выводы. Я не знаю, я не уверен. Это выглядит очень
красиво у Искандера, но боюсь, что это невозможно доказать уже просто
потому, что непонятно, что же это такое – творческая сила? Что это за
искра такая, как ее пощупать, определить, как выделить?
В.К.: А ты считаешь, что моральный закон, о котором говорил Кант, он
не дан человеку? Который он, человек, может, и нарушает, но который ему
дан внутренне, как эталон, для поверки своих поступков.
Б.С.: Это очень интересный вопрос! Я не знаю...
В.К.: Я в последнее время знаю селян, они, к сожалению, уже все на излете.
И вот, у них кроме стремления жить и так далее, помимо определенного
отношения к земле и обществу есть какой-то свой моральный закон, который
они переступают с трудом. В некоторых случаях человек скорее пойдет на
убытки, но он не позволит себе переступить! У меня есть такой сосед, сейчас
уже слепой...
Б.С.: Знаешь, твой сосед, может быть, и имеет нравственный закон для
себя. Но, вообще говоря, я боюсь, что все это не так красиво на самом деле.
Ведь, по сути говоря, в чем состоит идея Канта? Она состоит в том – грубо,
практично, если применить эту идею к реальной жизни, – что, когда человек
совершает плохой поступок, исходя из корысти, или вследствие дурного воспитания, –
он знает всегда, что поступает плохо. Потому что это понимание заложено
в нем на уровне генов. Вот что хотел сказать Кант. Я не уверен в этом.
С.Я.: То есть Вы считаете, что человек не всегда сознает, что поступает
плохо?
Б.С.: Я считаю, что нравственность лежит не в подсознании, как сказал
бы Кант, если бы он жил на век позже, а в сознании. Нравственность
воспитывается. И знаете, это можно доказать большим количеством примеров.
Ну, возьмите викингов. Нравственные представления викингов диаметрально
противоположны нашим! Диаметрально
противоположны христианскому представлению о том, что хорошо, и что плохо.
Христианин считает «не убий»! Викинг говорит: «Как не убий?
Догони, располосуй мечом, вспори живот, и это будет хорошо!» «Не
укради». «Как это не укради? У врага! Да надо забрать, не медля ни
одной секунды! Ну, у соседа, конечно, нельзя, потому что сосед тоже с мечом
и может убить. Но в приниципе, напасть, сжечь, изнасиловать всех женщин,
зарубить детей, всех ограбить – это прекрасно! За это ты будешь героем,
и в Валгалле будешь вечно пировать...» Понимаете, их нравственность
была совершенно другой, и даже приходит в голову мысль, что, может быть,
викинги потому и не уцелели, потому ничего и не осталось от них, кроме
их саг. Потому что вот эти нормы нравственности, которые они исповедовали,
противоречили нормам человеческого общежития. Потому что – что такое христианская
мораль, в конце концов? Это законы человеческого общежития, и больше ничего!
В.К.: Есть мораль мусульманская...
Б.С.: Я не говорю о мусульманской морали, знаешь, Вадим, почему, потому
что я очень плохо знаю ислам. Я знаю только, что он в значительной степени
основан на христианской морали. Мусульмане, между прочим, уважают Христа,
как одного из пророков.
В.К.: Мне кажется так, что для нормального человека нравственный закон
существует. Но есть люди, для которых он абсолютно не существует. Я не
знаю, сколько их...
Б.С.: Кант-то утверждал, что он есть у всех людей!
В.К.: Это я не знаю. Есть люди сумасшедшие... С.Я.: Ну, сумасшедших, я
думаю, мы брать не будем.
В.К.: Но большинство людей – нормальных, с моей точки зрения, в конечном
итоге знают, хорошо они делают, или нет.
Б.С.: Вчера показывали по телевизору – чуть ли не в «Вестях»
– замечательную фигуру. Умирает бабка в семье. У нее внуки, лбы, судя
по виду, лет под тридцать. Они звонят, чтобы похоронили, а им говорят:
двести восемьдесят тысяч. Вот показывают этого внучка. Видно, что сильно
поддатый. До сих пор. Положили в мешок и вынесли на помойку. Утром ее нашли...
Вот – что такое нравственность этих людей? Он знает, что поступает плохо,
понимаешь, Вадим, это видно по его лицу, как он
закончил свою речь: «Съел литр спирта и увез». Вот такая логика.
То есть, ему понадобилось принять, чтобы решиться на такой поступок. И хотя
это, судя по всему, человек, совершенно опустившийся, что-то в нем есть...
В.К.: Я тебе могу сказать, что, например, человека, который пьет всерьез,
я отношу к ненормальным людям. В некоторых случаях – трезвый – он может
быть очень хорошим человеком.
Б.С.: Да, конечно.
В.К.: Но если он начал всерьез пить – он думает только об одном.
Б.С.: Я просто знаю на опыте всей своей жизни, что алкоголику нельзя
верить ни в чем. Если человек страдает алкоголизмом, как бы он ни был хорош
в трезвом виде, верить ему нельзя. Потому что, как только он напивается,
для него не существуют представления о честности и порядочности. Что же
это за нравственный закон, который, как только выпьешь, исчезает?
С.Я.: Я хотел обратить Ваше внимание на следующую версию источника
нравственности. Доктор биологических наук
В.Р.Дольник, петербуржец, кстати, пишет о своих исследованиях в журнале
«Природа». Он изучал поведение стад коллективных животных –
обезьян. И утверждается, что уже в стаде существуют инстинктивные зачатки
норм поведения, выработанные эволюцией. Не убий сородича по стаду. Не
возжелай самку, принадлежащую собрату. Не забирай у него пищу – не укради.
Возникает версия, что нравственные принципы, о которых говорилось, например
в Моисеевых заповедях, имеют биологическую основу!
Б.С.: Да, понятно.
С.Я.: А уже потом люди, осознав их появившимся и развившимся разумом,
сформулировали их в виде стройной системы, регламентирующей поведение
и отвечающей и биологическому, и общечеловеческому.
Б.С.: Может быть. Я не знаю. Для меня этот вопрос очень спорный, и я
просто не берусь судить. Я просто знаю, что существуют такие системы
нравственности,
которые позволяют народам выжить, и также системы нравственности, которые
народы убивают, понимаете, в чем дело. Гибнут народы!
С.Я.: Да, пример викингов Вы приводили.
Б.С.: И вероятно, это не случайно. Ведь не случайно же большинство кочевых
народов-завоевателей, всевозможные гунны, обладавшие
совершенно специфической моралью, не дававшей им никакого будущего, они
приходили со своей нравственностью на новые земли, захватывали их, и
первое, что они делали – принимали нравственные нормы завоеванных народов.
Именно это помогало им выжить, уцелеть.
С.Я.: То есть приходили к более соответствующему общечеловеческим нормам
состоянию. А викинги были дисгармоничны?
Б.С.: При чем тут дисгармоничны! Внутри себя они были очень гармоничны.
Но эта гармония была чистой видимостью.
В.К.: Фома Аквинский говорил, что добро – абсолютно, а зло паразитирует
на добре, поэтому вторично. Потому что для того, чтобы что-то отнять (сделать
зло), нужно, чтобы кто-то что-то произвел (сделал добро).
Б.С.: Я думал тоже на эту тему. Я думаю как раз по-другому. Добро – более
абстрактно. Добро – это дух. А зло – это плоть. Зло материально всегда.
А добро – как бы подтекст твоей деятельности. Ты его ощущаешь только
инстинктивно, и проявляется-то оно тоже какими-то, черт возьми, эманациями,
излучениями... В то время как зло всегда конкретно, «грубо, зримо»,
однозначно, перечислимо, оно может быть расписано по всем деталям. А вот
добро очень трудно так расписать! Добрый поступок очень трудно описать.
Вот обратите внимание, – вам не приходилось встречаться с тем, что, когда
вам рассказывают о некоем добром поступке, сразу же начинают – либо у
тебя, либо у твоего собеседника – возникать какие-то противные мысли:
а не совершено ли это в корыстных целях на самом деле...
В.К.: Тут есть такое, говорят, дурное дело – нехитрое. Или: плохие
люди объединяются легче. И жить им легче.
Б.С.: Легче, гораздо! Это естественно.
В.К.: Один человек назвал другого жидом вонючим, и через пять лет они
обнимаются, и никаких угрызений.
Б.С.:(смеется) Ну, это как раз неудачный пример. Подумаешь – жидом вонючим!
В.К.: И все-таки добро может существовать без зла, а вот зло – не может
без добра. И второе. Добро идет к солнцу, а зло идет все-таки в тень. Если
ты совершаешь что-то плохое, тебе советуют: ты об этом никому не говори.
У меня вот очень мало вещей, о которых мне нужно
никому не говорить. Я могу сказать всем. А зло – скрывается.
Б.С.: Вот, понимаешь, это очень важный признак, который позволяет думать,
что Кант, вероятно, сказал правду. Самый плохой, самый дурной человек все-таки
догадывается, что он плохой и поступает плохо. Я думаю, что это во всех
системах нравственности такая вещь.
С.Я.: И у викингов?
Б.С.: Понятие зла может быть разным, понимаете? Но
все-таки каждый человек, совершающий зло, знает, что он совершает зло.
В.К.: Я думаю, что есть люди, которые к этому инвариантны. Но это аномалии.
Б.С.: Есть такое понятие – бесчувственный человек.
В.К.: Да, как люди, лишенные слуха, или чувства цвета, или просто слепые.
С.Я.: Лишенные нравственного чувства. Но это уродство.
Б.С.: Да, это, видимо, надо уже воспринимать, как уродство. Это, вероятно,
есть, но это именно уродство.
С.Я.: Борис Натанович, в таком случае, если все-таки существуют некие
естественные нормы человеческого общежития, о которых Вы говорили, откуда
в свою очередь берутся они? Каково, по-Вашему, происхождение морали?
Это вопрос из списка...
Б.С.: Ну, Сережа, так если мы материалисты...
В.К.: Ты отошел от Маркса, но остался материалистом?
Б.С.: Маркс – не первый материалист.
В.К.: А ты материалист?
Б.С.: Я себя считаю материалистом. Так вот, для материалиста совершенно
однозначно, что объяснение нравственному императиву Канта надо искать в
генах, в естественном наборе, в эволюции, мутациях – в такого рода наборе.
В.К.: То есть ты считаешь, что главное – не информация, а материальные
субстраты, ее носители?
Б.С.: А что, информация нематериальна, что ли, по-твоему?
В.К.: Информация очень сильно независима от материального носителя.
Б.С.: Я с тобой согласен, но только из этого не следует, что
информация нематериальна.
В.К.: Но то, что говорит религия об информации, или духе, лишенном
материального носителя...
С.Я.: Итак, вопрос о Вашем отношении к религии, Борис Натанович.
Б.С.: Религия, насколько я понимаю, просто говоря, заявляет следующее.
Она говорит, что кроме материального мира существует еще нечто. Это нечто,
разное в представлениях разных религиозных школ, называют по-разному. Причем,
когда говорят «Бог», скоро выясняется, что не совсем понятно, о чем идет
речь, потому что с точки зрения одного теолога, например, Бог – это
воплощение добра, а с точки зрения другого это не так...
В.К.: Но если мы начнем говорить, что такое, скажем, электричество,
мы тоже придем к разным версиям.
Б.С.: Здесь тоже разные школы, и тоже все по-разному. Но, во всяком
случае, по моим представлениям, быть религиозным – это значит верить
в то, что существует некая нематериальная сила, управляющая твоей жизнью.
Есть нечто, от чего зависит твое прошлое, настоящее и будущее. И что бы
ты ни делал, эта сила совершит задуманное ею. Вот, собственно, это и
есть религия.
В.К.: Может быть, я не прав, но я думаю вот о чем. Имеется дом из кирпичей.
Имеется план этого дома. На бумаге, а может быть, дискете, а может быть,
вообще на чем-то. Или просто в чьей-то голове. Вот что важнее: кирпич
или этот план?
Б.С.: Я тебя прекрасно понимаю, Вадим, но для меня религия начинается
не в тот момент, когда ты решаешь, что важнее – план или его воплощение.
Религия начинается в тот момент, когда еще нет ни дома, ни чертежа, а есть
идея. И вопрос вот в чем: родилась эта идея в результате движения электростатических
полей и выделения адреналина, или эта идея появилась независимо от процессов,
происходящих внутри человеческого организма? Если человек говорит, что
эта идея возникла у него в голове независимо от тех процессов, которые
в ней происходят – это религиозный человек. Если он говорит: «я не знаю,
как эта идея возникла», – но ясно, что какие-то шарики зашли за какие-то ролики.
Мы, может быть, даже не знаем, что это за шарики и за ролики, может быть,
мы узнаем об этом только через двести лет. Но, во всяком случае, ничего,
кроме нейронов,
полей, гормонов в рождении этой идеи не участвовало. Вот это – материализм.
Вот разделение. Вот как я определяю религию. С моей точки зрения,
религия – это, как кто-то сказал, опиум для народа. Это, безусловно, правильно.
Только у нас в пропаганде нашей сложилось так, что поскольку опиум делает
человека не человеком, рабом и так далее, в выражение «опиум для
народа» включается какой-то негативный смысл. На самом деле это не
так. Что такое религия? Религия – это спасение для слабых. Это самозащита
от неуправляемого и ничему не подчиняющегося мира, в котором ты ничего
не можешь сделать. Ты слабый, маленький человек. Ты в этом мире – никто,
и надеяться не на кого, кроме как на некое высокое существо, которое о
тебе заботится, которое о тебе всегда помнит, которое тебя не оставит,
которое тебе в трудную минуту поможет. Вот это представление – по сути
дела, духовный наркотик.
В.К.: Вот тут я не знаю. Не согласен.
С.Я.: А я думаю, что так оно, скорее всего, и есть.
Б.С.: Ведь не случайно подавляющее большинство даже религиозных
людей обращается к Богу только в тяжелые минуты. Недаром под бомбежками
самый заведомый атеист начинал молиться. Он лежит в окопе, на него сыплется
металл со всех сторон, – и он молится!
В.К.: Я не согласен с тем, что религия – это удел слабых. На вопрос
– совместимы ли, скажем, сильный человек и религия, – я бы ответил
«да».
Может быть, религия и дает ему эту силу! И не потому, что он слабый, просто
она его еще усиливает.
Б.С.: Значит, все-таки вопрос опять упирается в нехватку силы! Своей
силы ему мало, он чувствует это интуитивно, и черпает силу из
сверхъестественного.
В.К.: Я не берусь ответить, но думаю все-таки, что надо ответить
«да»,
а зачем сильному человеку вера – это уже вопрос интерпретации.
Б.С.: Был такой замечательный французский психолог и этнолог Клод Леви-Стросс.
У него есть замечательная теория возникновения суеверий и примет. Он там
пишет, что суеверия и приметы делают человека сильным. Может быть сколько
угодно суеверным человек, и при этом настоящий боец, настоящий вождь!
Потому что дурная примета настораживает, а хорошая примета усиливает,
взбадривает. Вот нечто подобное происходит,
как я думаю, с твоими сильными верующими. Они есть, наверное. Вообще
сильных людей меньше, чем слабых, начнем с этого. И поэтому, конечно, сильных
верующих на несколько порядков меньше, чем слабых верующих. И для верующего
все-таки характернее слабость, чем сила.
В.К.: Ты скажи: вот у тебя были иллюзии относительно социальной жизни.
У меня были иллюзии в области религии, религия для меня просто не существовала,
как и религиозная философия. Когда я был молодой, я читал «Материализм
и эмпириокритицизм» не потому, что меня заставляли, а потому,
что мне было интересно. Сейчас я читаю Меня. Ты считаешь, что знаешь
предмет?
Б.С.: Да нет, конечно! Вадим!..
В.К.: С этого у нас начался разговор с Сергеем – он пишет по поводу
науки, и я ему сказал, что прежде чем ты будешь писать, грубо говоря,
против религии и за науку, ты должен хорошо знать, о чем пишешь.
С.Я.: Замечание, безусловно, верное...
Б.С.: Если из моих высказываний создалось впечатление, что я считаю,
что хорошо в этом разбираюсь – это неверно! Я никогда специально этим не
занимался, хотя я Меня, конечно, тоже читал, и Тейяра де Шардена читал,
который фактически тоже занимался подобными вещами. Но у меня существует
некое представление о том, что такое религия как социальное явление,
откуда она берется и каково ее социальное назначение. Вот эти представления
у меня есть. А что касается, понимаешь, Вадим, религиозной философии,
то я не уверен, что мне это даже будет интересно! Потому что, ведь ты сам
как-то справедливо сказал, что это вопрос веры или неверия. Я убежден совершенно,
что человек, особенно современный человек, особенно образованный человек,
особенно естественнонаучно образованный человек не может прийти к Богу
через разум. Если я не верю в Бога, то никакие книги меня в этом не убедят.
Он может прийти к Богу только каким-то интуитивным чувством, и вот мне
кажется, в подавляющем большинстве случаев, ощутив свое полное бессилие
и гибель свою ощутив надвигающуюся. И тогда для него идея Бога станет
естественной защитой от ужаса, в котором он оказался.
С.Я.: Абсолютно согласен.
В.К.: Я не согласен с этим. А среди верующих сильных людей я могу,
кстати, назвать упомянутых Меня и де Шардена. Людей, которые заведомо
не были слабыми. Все, что я слышал о Мене от людей, его знавших, об этом
говорит. А о Шардене я просто читал. Мне кажется, это были сильнейшие
люди! Вот де Шарден не публиковал свой труд, поскольку ему запрещала
церковь. Он мог расплеваться и сказать: «Пошли вы все!» Но он этого не сделал,
поскольку был, с моей точки зрения, очень сильным человеком.
Б.С.: Ну, знаешь, вот если бы как раз он напечатал, «вопреки»,
тогда бы я скорей назвал его сильным!
В.К.: А вот, ты знаешь, и нет, мне кажется, что нет.
Б.С.: Я хочу сказать только одно. Сильный религиозный человек – это редкость.
Сильный человек вообще редкость.
В.К.: А сильный атеист, ты считаешь, это более частое явление?
Б.С.: Безусловно.
В.К.: Мне кажется, что это как раз не сила, а самоуверенность.
Б.С.: Вадим,
мы ведь религиозность по-разному понимаем. Я ведь под религиозностью все
время, повторяю, понимаю одно и то же: каждый человек живет как бы по
воле другого, неведомого, высшего и всемогущего существа. Вот что такое,
с моей точки зрения, религиозность, вот что такое главная религиозная идея,
с которой я никогда не соглашусь. Никогда, потому что в моем представлении
человек...
С.Я.: Самодостаточен.
Б.С.: Самодостаточен! Ни в чем не нуждается и существует по воле других
людей, а не по воле каких-то неведомых сил. То есть все, что происходит
с человеком, имеет свое, быть может, сложное, практически не просчитываемое,
но совершенно реалистическое обоснование. Как шахматная партия – ее нереально
практически просчитать от первого до сорокового хода, но в принципе этот
просчет возможен! В принципе! Хотя нереализуем. Так же и здесь. Если
какой-нибудь
там, – я не знаю, – Ботвинник – уже знает, что будет на сороковом ходу,
это происходит не потому, что его осенила какая-то идея, а потому, что
он каким-то образом произвел этот просчет, и если бы мы были умнее, мы
бы узнали, как он это сделал...
Снова звонит телефон. Борис Натанович говорит о поломке в своем
компьютере, ему сообщают, что поломка серьезнее, чем предполагалось.
Я меняю кассету в диктофоне.
продолжение следует
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ
Борис Натанович заканчивает телефонный разговор. Я снова включаю диктофон.
С.Я.: Еще один вопрос из числа предложенных заранее. При чтении произведений
Стругацких создается впечатление, что Вы весьма высоко оцениваете скрытые
возможности человека, как, например, в трилогии о Максиме Каммерере. Как
Вы относитесь к экстраординарным способностям человека?
Б.С.: Например?
С.Я.: Сейчас появляется много сообщений о ясновидении, экстрасенсорных
проявлениях...
Б.С.: Я не знаю ни одного достоверного случая! Это все артефакты.
С.Я.: Я очень долго думал так же. Но вот в журнале «Труды института
инженеров по электронике и радиотехнике», американском, мне
показали громадную статью. Там описывались многочисленные и тщательные эксперименты,
когда претенденты в экстрасенсы должны были сдвигать распределение в
генераторе случайных чисел, изменять интерференционную картину в каких-то
оптических системах и так далее. Десятки тысяч опытов. Статистическая
обработка данных по всем канонам классического физического эксперимента.
Вывод: эффект мал, но несомненно существует.
Б.С.: Сережа, это ничего не доказывает! Я читал десятки статей, где приведены
гораздо более эффектные результаты. Прекрасно помню, что «?????? корпорейшн»
провела гигантскую исследовательскую работу, гигантскую! Десятки тысяч
добровольцев принимали участие. Полностью объективное исследование, когда
люди имели дело только с пультом и с числами, больше ничего не было.
И не было обнаружено никаких эффектов.
С.Я.: Никаких?
Б.С.: Никаких. То есть, самые разнообразные есть результаты! Это я и называю
ситуацией полной неопределенности. До тех пор, пока хоть какая-то определенность
не появится – нет смысла строить концепции. Это как с Лох-Несским чудовищем.
Сколько лет ломали голову, и вот наконец выяснилось, что это жульничество!
С.Я.: К моему тайному удовольствию. Хотя, честно говоря, все-таки жалко...
Б.С.: Нет, а у меня просто слабость к таким вещам! Я люблю чудеса и
много о них писал. Хотя у нас с Аркадием Натановичем это всегда было антуражем,
не более того. Никогда мы в это серьезно не верили. Хотя, по-видимому,
первый в советской фантастике рассказ о полтергейсте написали мы. Помните
– «Шесть спичек»?
С.Я.: Конечно!
Б.С.: В то время это была совершенно немыслимая вещь. Но это писалось
исключительно для того, чтобы поразить воображение читателей. Сами мы
в это не верили абсолютно!
С.Я.: И продолжаете не верить и сегодня?
Б.С.: Да. Я не поверю в это, знаете... По принципу «бритвы Оккама»: не умножай сущности...
С.Я.: ...сверх необходимости.
Б.С.: Да, сверх необходимости.
В.К.: А то, что касается поисков других цивилизаций? Надо искать? Стоит
тратить на это деньги?
Б.С.: Между прочим, вероятность того, что существуют ясновидение, полтергейст
и так далее – сама по себе очень сомнительна, как мне кажется. А вот
существование другого разума во Вселенной – мне кажется, что вероятность
такого события просто близка к единице!
С.Я.: Надо понимать так, что Вы не согласны с тем, о чем писал
И.С.Шкловский в своей последней статье о практической уникальности
земной жизни?
Б.С.: Нет никакого противоречия! Я полностью согласен!
С.Я.: Мы ничего не видим, потому что ничего нет, – в трактовке Шкловского.
Б.С.: Другое дело, что мы начинали с энтузиазма...
С.Я.: И ожидали, что миллионы цивилизаций тут же предстанут перед нами...
Б.С.: Ну да, а оказалось, что это явление очень редкое! Но тем не менее
оно настолько кажется мне возможным и реальным, что, скорее всего, обязательно
есть!
В.К.: А если есть где-то цивилизация, на много порядков нас превышающая
по своему развитию, типа того, о чем писал Лем – перестраивающая Вселенную,
то, если сделать еще маленький скачок, получится опять-таки Бог! Многие
атрибуты Бога, например, гигантский авторитет, будут присущи этой цивилизации.
Михаил Чулаки пишет в «Неве», что это плохо, когда отношение
к Богу строится на уважении его авторитета. Я считаю, что авторитет –
это хорошо. И если эта цивилизация сможет распоряжаться законами природы,
то, сделав еще маленький скачок, мы таки получим Бога.
Б.С.: Это тебе кажется, Вадим, что скачочек маленький. А я тебе на это
скажу, что от самой развитой цивилизации до Бога расстояние такое же, как
и от нас до Бога! Потому что это нечто принципиально иное.
В.К.: Насчет малости скачка – я беру свои слова обратно, но, сделав
такой трансцендентный скачок и предположив, что можно изменять законы
природы, мы оказываемся близко к концепции Бога. Сверхцивилизация влияет
на нас, и ты об этом не знаешь, и тем не менее вся твоя жизнь проходит
«под колпаком» этой сверхцивилизации – это, в общем, в какой-то
степени модель, близкая к модели Бога.
Б.С.: Вадим, я с тобой никогда не соглашусь! Я понимаю твою идею и сам
на эту тему много думал, и даже писал. Я могу себе представить, что с точки
зрения тети Моти сверхцивилизация будет Богом. Но она не будет Богом! Потому
что, по определению, Бог – это нечто неосязаемое, непознаваемое и всемогущее!
Ни один из этих признаков для сверхцивилизации не подходит. Как бы она
ни была высокоразвита.
Вот почему расстояние от сверхцивилизации до Бога и от нас до Бога
– одно и то же. Это – как вопрос, каких чисел больше – четных или нечетных.
Мы говорим о бесконечности. Расстояние до Бога – бесконечно! Вот в чем
дело. Конечно, существует какая-то реалистическая шкала развития цивилизаций.
Н.С.Кардашев ввел понятие типов цивилизаций по уровню энергопотребления.
Цивилизация, потребляющая энергию порядка энергии звезды – это уже
сверхцивилизация.
И с точки зрения, повторяю, тети Моти, она, сверхцивилизация, от Бога ничем
не отличается. Более того, даже с точки зрения образованного человека,
не получившего достаточного количества фактов, она не отличается от природных
явлений. Потому что мы можем наблюдать за деятельностью сверхцивилизаций
и воображать, что имеем дело...
С.Я.: С квазарами, например!
Б.С.: Да, со странными звездами, сочетаниями каких-то полей, может
быть, даже введем какие-нибудь новые термины, чтобы объяснить появление
каких-нибудь «спектров исчезновения», скажем... Эта деятельность,
безусловно, титанична, но тем не менее она постижима. По крайней мере, в
основе своей. К сожалению, или счастью – но это так. А разница все-таки
принципиальная! Между нами и сверхцивилизацией – разница количественная.
Между любой цивилизацией и Богом – разница качественная, потому что цивилизация
– это явление материального мира, а Бог по определению явление идеального
мира. Внематериален Бог! Поэтому приблизиться к Богу нельзя.
С.Я.: Этот вопрос неисчерпаем...
Б.С.: Давайте немножко закругляться.
С.Я.: Борис Натанович, если можно, еще один вопрос из числа предложенных
заранее, но «из другой оперы». Что Вы можете сказать о фантастике
сегодня? Сейчас на лотках мы видим гигантские развалы книг, почти сплошь
– фантастика и детективы. Кого бы Вы посоветовали читать?
Б.С.: Вы же задаете те же вопросы в конце Вашего списка, и там называете
тех же самых авторов, которых я люблю и которых готов рекомендовать
к чтению. Положение с фантастикой у нас сейчас то, которого на самом деле
следовало ожидать, хотя нашей фантазии на это не хватило. Всегда для
нашей фантастики была одна проблема – как напечататься.
У нас всегда были фантасты – талантливые люди, молодые, пожилые, какие
угодно. Талантов всегда было навалом. Раньше не давала нам печататься цензура,
теперь нам не дают коммерческие структуры, потому что сейчас издать или
не издать книгу – зависит исключительно от коммерсанта, который заказывает
тираж! А коммерсант, как правило, человек, во-первых, невысокой культуры,
а во-вторых, воображающий, что он абсолютно точно знает рыночный спрос.
И поэтому он говорит: русских не печатать! Прямо можно подумать, что он
какой-нибудь сионистский агент... Русских не печатать! – говорит он. – Вот
давай нам Джонов, Джеков, это мы будем издавать с удовольствием, лишь
бы там были стерлинги, Кристоферы и мистеры. Принцип очень простой. Всякий
автор, который имеет хотя бы минимальную популярность на Западе, должен
быть издан в России. Вот принцип современных коммерческих структур, которые
заказывают музыку. Поэтому положение наших авторов в фантастике как раньше
было тяжелым, так и сейчас тяжелое. Правда, у меня такое впечатление,
что последние год-два, нет, пожалуй, год... все-таки происходит некий
поворот к российским авторам. Рынок наелся зарубежкой. Уже надоело. Но
совершенно ясно, что англоязычная фантастика завоевала мир, монополизировала
фантастику. Мы много на эту тему говорили... Нигде, ни в одной стране
мира местная фантастика не может сравниться по своему влиянию с англоязычной.
Французский, немецкий, итальянский книжный рынок – везде 70 – 80 процентов
издаваемых изданий – англоамериканцы. Тут совершенно все ясно. Поэтому
я думаю, что если в ближайшие год-два-три российским авторам удастся
отвоевать 20 процентов названий, то это будет замечательно. Это будет
то, что надо. А люди есть. Андрей Столяров, который действительно начинал,
как Вы, Сергей, написали, в очень подражательной манере. Но в такой манере
он, собственно, только одну вещь напечатал – «Ящик Пандоры».
Может, ее и печатать не надо было. Она действительно вторична – но первая
и последняя. А последние его вещи – прекрасные: «Сад и канал»,
«Монахи под Луной», «Послание к коринфянам».
С.Я.: «Послание» произвело на меня сильнейшее впечатление.
Б.С.: Да, замечательно! Это вещь высочайшего класса. У нас в Питере есть
Вячеслав Рыбаков. Его повесть «Не успеть» – очень сильная.
С.Я.: Согласен. И «Гравилет «Цесаревич» тоже.
Б.С.: А
он вышел уже?
В.К.: Да, в «Неве».
Б.С.: Я читал его в рукописи,
и знаю, что он должен был выйти.
С.Я.: «Гравилет» действительно мощная вещь.
Б.С.: Очень сильная. Рыбаков вообще мой любимчик. Он из нашего семинара,
я его очень люблю. Работает в Институте востоковедения, китаист, здесь,
в Питере. Пару лет назад одновременно вышли две вещи – «Не успеть»
Рыбакова и «Невозвращенец» Кабакова. На мой взгляд, «Не
успеть» – гораздо сильнее, но вот москвичи своего подняли «на
ура», тем более как раз путч развернулся – все, как по заказу... Виктор
Пелевин, восходящая... взошедшая уже звезда, получивший «Малого Букера»
– премию за рассказы. Великолепная его повесть «Амон Ра». Не
читали? В «Знамени», в прошлом году, превосходная вещь! Александр
Щеголев сейчас у нас появился в Питере, молодой. Он очень страшную вещь
написал – «Любовь зверя». Попробуйте достать. Так что у нас много
талантов!
В.К.: А как с выходом российской фантастики за рубеж?
Б.С.: Видишь, с
этим всегда было плохо. И сейчас плохо.
В.К.: Не печатают?
Б.С.: Очень мало. Из советских фантастов они знают немножко Ефремова,
Стругацких, немножко Булычева.
С.Я.: Борис Натанович, я хочу внести поправку. В одном из своих письменных
вопросов я указал, что Стругацкие исчезли с книжных развалов Иркутска.
А потом уже начал спрашивать у лоточников. Оказывается, Стругацкие сметаются
мгновенно! Спрос велик, и дело в этом. Я с большим трудом докупил – и
то не полностью, и только в Москве – собрание Ваших сочинений.
Б.С.: Сережа, вы имейте в виду, что в последние годы я очень зажимал
выпуск наших книг. Просто потому, что я не хочу перенасыщения рынка.
Из пяти просьб в четырех случаях я отказываю. Так что в общем, в девяносто
втором – девяносто третьем годах было не так уж много наших книг. Да и
тиражи, конечно... Ну что такое для России тираж в пятьдесят тысяч,
даже в сто? Это расходится только в Москве и Питере. Из Сибири мне ребята
пишут: где вообще фантастика? Нам читать нечего!
А пересылать книги к вам в Сибирь – это большая проблема.
С.Я.: Еще один вопрос – о судьбе российской интеллигенции.
Б.С.: Я не знаю, вот Вы второй человек, задающий мне этот вопрос в последнее
время. Я недавно давал интервью «Московским новостям», и там
тоже звучала эта тема... Все будет нормально с российской интеллигенцией!
Все, по-моему, главные беды российской интеллигенции уже просто миновали.
Вместе с тоталитарным режимом. Российская интеллигенция была несчастным
социальным организмом во времена тоталитаризма.
С.Я.: Я могу пояснить. Летом прошлого года в Иркутске был международный
семинар, посвященный творчеству Чехова. И профессор хххххххххх из МГУ,
филолог, в передаче по иркутскому телевидению заявил, что, по его мнению,
с нынешними изменениями социальных условий интеллигенция в России перестанет
быть таковой и вскоре исчезнет, как категория. В частности, потому, что
одной из функций интеллигенции всегда была оппозиция к тоталитарному
режиму, которого больше нет.
Б.С.: Да, я знаю такую точку зрения, что понятие «интеллигент»
имеет смысл только одновременно с понятием «оппозиционер». Ну,
начнем с того, что и сейчас достаточно оснований для оппозиции.
С.Я.: Вот уж с этим, действительно, невозможно не согласиться.
Б.С.: Любой человек может встать в оппозицию, и для этого у него будет
огромное количество поводов. Но я безо всякого труда представляю себе интеллигента,
который не стоит в оппозиции к правительству, и не потому, что правительство
хорошее, а просто потому, что в нормальных странах правительство вообще
не оказывает воздействия на жизнь. Оно существует, занимается своими делами,
а интеллигенция занимается своими делами. Интеллигент действительно оппозиционер,
потому что он всегда сомневается, всегда ищет скрытое, всегда противостоит
каким-то догмам и старается одни парадигмы заменить на другие. Эта роль
у интеллигенции всегда была, и никто ее у нее не отнимал. По-моему, все
эти разговоры сейчас происходят просто потому, что зарплату очень часто
задерживают. Большинство интеллигентов – бюджетники, они живут хуже многих,
и отсюда возникают разговоры о крахе науки и конце интеллигенции...
Конечно, это ужасно, когда задерживают зарплату...
В.К.: На науку действительно не дают средств, и дело тут не
в зарплате. И перспектив в этом отношении я не вижу.
Б.С.: Ты – творческий человек, для тебя главное – работа, и зарплата
тебе нужна для того только, чтобы поддерживать тело бренное. Но таких не
так уж много.
С.Я.: Борис Натанович, дело действительно не в зарплате, точнее, не только
в зарплате. Дело в том, что нет денег не только на зарплату, но и на оборудование,
материалы. Я сейчас на могу работать на телескопе, где я работаю, как
следовало бы, в частности, потому, что кончается фотопленка, и не на
что ее купить...
Б.С.: Ну, ребята, ну, это же кризис! Слушайте! Надо четко понимать!
Мы сейчас находимся в положении Германии после ее разгрома. Ведь так называемое
мирное сосуществование двух систем на самом деле было тотальной войной –
экономической, идеологической, политической, культурной! Это была война.
Мы воевали со всем миром и эту войну проиграли. Мы находимся сейчас
на послевоенных руинах! Мы проиграли вчистую, по всем статьям. Экономическую
войну – проиграли, потому что отстали от развитых стран на тридцать лет,
а от некоторых – навсегда. Идеологическую войну – проиграли, потому что
слово «коммунизм» стало бранным во всем мире. Политическую войну
– проиграли, потому что у нас не осталось ни одного союзника. Выяснилось,
что все наши союзники были только потому союзниками, что там наши войска
стояли и тайная полиция орудовала. Полностью проиграли политическую войну!
Культурную войну – проигрываем, потому что нищие, потому что на культуру
и науку не можем давать денег. И следовательно, мы сейчас находимся в
состоянии тотального послевоенного кризиса. Надо это совершенно четко
понимать! У нас все происходит сейчас по программе Веймарской республики.
У них путч двадцать третьего года – у нас путч девяносто третьего, точно
такой же. У них Гитлер вылезает, у нас – Жириновский сотоварищи.
В.К.: Я спросил у своего знакомого немца: Клаус, сколько вы мучились
после войны? Он говорит: года два, а потом все пошло. Но это ГДР, и после
второй мировой войны, естественно.
Б.С.: Э, Вадим, это огромная разница между первой военной
катастрофой и второй. Из первой катастрофы сделали выводы. Ведь что было после
первого поражения Германии? Ведь в семнадцатом – восемнадцатом году все
соки вытянули из Германии! Не только военным образом разгромили, но и
ограбили, и довели фактически народ до фашизма. Из этого сделали выводы.
Поэтому, когда Германия второй раз проиграла войну, из нее ничего не
вывозили: наоборот, туда пошли капиталы, и все силы бросили на то, чтобы
убрать остатки тоталитаризма и создать совершенно другой строй. Аналогия
с первой мировой войной у нас полная. Тут мы совершенно одинаковы. Разница
только в том, что нас никто не грабит, мы сами себя грабим. В остальном
– полное сходство. И те же самые реваншистские идеи, и те же мечты – о
Великой Германии, которая захватывает все, а у нас – Великая Россия, которая
возвращается в границы Советского Союза. Аналогия абсолютно полная. Конечно,
в науке сейчас трудно. Выжить бы как-то!..
С.Я.: Борис Натанович, последний вопрос из списка. В своих интервью
Стругацкие, как правило, отказывались давать прогнозы на будущее. Тем
не менее, прогноз Бориса Стругацкого в интервью «Литературной газете»
(апрель 1990 года) оказался весьма точным: и распад Союза, и путчи. Каким
Вам видится будущее? Хотя бы, каким Вы его чувствуете? Хотя, так, наверное,
нельзя спрашивать...
Б.С.: Нет, Сережа, я этот Ваш вопрос помню, я на него обратил внимание
и даже немножко подумал, как на него отвечать. Понимаете, мы находимся
в точке бифуркации, Вы, конечно, знаете, что это такое.
С.Я.: Да.
Б.С.: Фактически ситуация абсолютно нестабильна. Вот как Ваша ручка –
я ставлю ее на стол, она стоит, но она обязательно куда-то упадет, но
вот куда – сказать заранее нельзя. Я-то обычно говорю, что мы в яме сидим
и отличаемся друг от друга только тем, что одни хотят вылезти на дорогу
вперед, а другие хотят вылезти на дорогу назад. Вся Россия разбита на два
лагеря, никакого центра не существует. И ощущение полной нестабильности...
...Возможны оба варианта. Все возможно. Либо преобладают силы реванша
– социалистического реванша, – тогда мы возвращаемся снова к управляемой
экономике, снова к раздуванию военно-промышленного комплекса, снова к
возникновению железного занавеса.
В.К.: Это реально?
Б.С.: Конечно! На стороне такого пути, считай, треть населения России.
Треть населения страны хочет этого! И они готовы Индийский океан завоевывать,
и уж конечно они пойдут и в Среднюю Азию, и в Прибалтику – с танками пойдут.
Треть согласится на это – лишь бы им платили регулярно зарплату, была
дешевая водка и дешевая колбаса. Все, больше им ничего не надо. Но другая
треть хочет уже новой России! Она уже вкусила возможности рыночной экономики.
В.К.: Первый путь – это конструктивный путь?
Б.С.: Какой? Назад? Я думаю, что это не путь. Это псевдопуть. Потому
что мы опять перейдем к перестройке, опять будет развал государства...
В.К.: Еще через пятьдесят лет.
Б.С.: В наше время все гораздо быстрее происходит. Не через пятьдесят,
а через пять лет. Но это будет большая кровь. Обязательно большая кровь.
Будут драться насмерть, Горбачева уже не будет, и теперь уже старые структуры
не отдадут власть новым никогда, и будет смертоубийство. Но в конце концов
вернемся, все равно вернемся на тот путь, по которому мы идем.
С.Я.: Потому что он единственный, как у Вас было однажды сказано?
Б.С.: Он не то что единственный, он апробированный уже. Это торная дорога.
Уже все далеко ушли, мы видим только спины...
В.К.: И что с нами будет? Вот вылезем и пойдем по этой дороге... Догонять
будем?
Б.С.: Догонять. Лет двадцать. Поколение! Нужно, чтобы поколение сменилось,
чтобы реалии рыночной экономики стали нашими реалиями. Но это нормальный
путь, никуда от него не уйдем. Все по этому пути пойдут. И Китай, как
бы он там ни трепыхался, пойдет по этому пути. Вопрос только в том, сколько
крови будет пролито. Понимаете? Для меня перестройка, которая произошла
после восемьдесят пятого года, откровенно говоря, была чудом. Я был
совершенно убежден, что ничего другого, кроме болота, в котором мы сидели
при Брежневе, я уже в своей жизни не увижу. Я был в этом убежден, потому
что не видел, какие силы могут нарушить это равновесие, эту пирамиду,
которая была за семьдесят лет
выстроена. Однако я ошибся. Я и сейчас не очень хорошо понимаю, почему
произошла перестройка. Но, видимо, существуют какие-то внутренние закономерности
в обществе, которые заставляют даже верхушку менять ситуацию, когда ясно,
что впереди – пропасть. Ведь понимаете, то, что мы сейчас имеем, мы бы
имели в еще худшем варианте, даже если бы коммунисты сохранили свою власть.
Экономика должна была развалиться, и она разваливалась на глазах. Перестали
качать нефть, и цена на нее упала – мы больше не можем держать государство
за счет продажи нефти и газа. Устарелое оборудование, которое еще довоенного,
а частично на некоторых заводах и дореволюционного производства – оно
по-прежнему есть. То есть мы все равно к этому шли. Сейчас оппозиционеры
кричат, что то, что мы наблюдаем, есть результат деятельности демократов.
Это смешно! Это естественный результат того развала, который начался где-то
в середине семидесятых годов. Горбачев и несколько его приближенных
почувствовали, что вот-вот понесет конь! И тогда костей они не соберут. Они
попытались оседлать это движение. Не удалось, но по крайней мере живы
остались, и на том спасибо. А я уверен, что если сейчас придут к власти
жириновцы, зюгановцы, они передерутся между собой. Кровищи будет пролито
жуткое количество. Каждый из них понимает управление страной как абсолютную
тоталитарную власть. Ни Зюганов не потерпит конкурента Жириновского,
ни Жириновский – Зюганова. Кто-то кого-то сожрет, будет какой-то страшный
период псевдохолодной войны, обострения отношений. Только что наладившийся
рынок опять к чертовой матери развалится, опять из магазинов все исчезнет...
Но через два-три-четыре-пять лет опять все начнется сначала. Опять появятся
деятели, которые будут говорить о перестройке – как это теперь будет называться,
я не знаю, но все будет так.
С.Я.: Вы чувствуете существование сил, которые могли бы привести к альтернативному
варианту развития событий?
Б.С.: К прямому, так сказать? К прогрессивному?
С.Я.: Да, назовем его так.
Б.С.: Конечно, такие силы есть! Я разговаривал с Егором Тимуровичем,
когда он еще был вице-премьером, он уже тогда говорил, что происходят
разительные перемены в этом самом корпусе красных директоров.
Даже там чувствуются перемены! Очень многие из этих людей почуяли вкус
самостоятельности и рыночной экономики. Им понравилось! Из Минэкономики
звонят директору: готовьтесь, мы завтра приедем, – как в старые времена.
А директор отвечает: а зачем? Зачем вы приедете? (смеется). Они уже
почувствовали
сладость самоуправления, так что сейчас создается слой... достаточно
толстый слой людей, которые, может быть, даже не позволят возврата... В
России, конечно, все очень сложно, очень многое зависит от эмоций, от толпы,
так что – черт его знает...
В.К.: Ты сказал, что положительный вариант – это мы догоняем мировое
сообщество по пути рыночной экономики. И ты считаешь, что это сообщество
идет по лучшему пути? Так будет до бесконечности? Или видно что-то лучшее?
Там тоже кое-что неблагополучно, и к тому времени, когда мы их догоним,
мы можем догнать не лучший пример для подражания. У Сергея тут был один
вопрос, который он не задает. Там говорится, что произошла некая моральная
девальвация, communism – это общее, коллективизм, это то, с чего мы начинали.
А сейчас мы перешли к индивидуализму, к вульгарному материализму.
С.Я.: И главное, что вроде бы не видим в этом ничего плохого! Считаем,
что так и должно быть. Это все тот же вопрос о моральных ценностях, ориентирах...
Б.С.: Мы сейчас находимся в том же положении, в каком находились молодые
Стругацкие в пятьдесят пятом году. Есть некий образец идеалов, есть мир,
в котором хочется жить. Тогда он назывался коммунизмом, сейчас я его
называю для себя справедливым обществом. И как тогда, так и сейчас, пути
к нему не видно. Я догадываюсь, что если не будет создана теория и
соответственно
практика воспитания человека, мы к этому справедливому обществу не придем
никогда.
Рыночная экономика, или постиндустриальное общество, как мы его называем,
может гарантировать только достаточно высокий материальный уровень.
В.К.: Как в развитых странах Запада.
Б.С.: Это следующий этап. Это то, что получается при последовательном,
на протяжении века, применении рыночной экономики. Получается
постиндустриальное
общество. Оно обременено огромным количеством недостатков. Он решает
только одну проблему – проблему материального
обеспечения, можно даже, наверное, сказать, подавляющего большинства
населения данной страны... Подавляющего! Эта экономика создает страну,
в которой нет голодающих. Но оно по-прежнему порождает преступность, наркоманию,
самоубийства. Надо совершенно четко представлять, к чему мы придем через
поколение. К сытому, но невоспитанному обществу. И останется все та же
проблема – как общество воспитать. Это задача уже не на поколение, а на
два – три... И я не знаю, будет ли она поставлена, эта задача! Потому что
на эту тему очень мало говорят, мало пишут, рассуждают... Обсуждают главным
образом проблемы скорее материальные, нежели духовные...
В.К.: Блаженный Августин говорил так: в главном – единство, во второстепенном
– свобода, и во всем – любовь.
Б.С.: Хорошо сказано! Это красиво и четко сказано.
В.К.: Я вот еще о чем хотел тебя спросить. «Трудно быть богом»
– это моя самая любимая из ваших книг. Я как-то сказал, что Румата, с моей
точки зрения, не был Богом. А ты мне возразил, что Румата Богом был. С
другой стороны, ты говоришь, что между Богом и любым обществом – огромная
пропасть...
Б.С.: (весело) Я тебе не сказал, что Румата был Богом, Вадим! Я сказал,
что он исполнял функции Бога! Не был он Богом, но функции исполнял. Может
быть, он не способен их реализовать, эти функции, но функционально он –
именно Бог! Задачи его – задачи божественные.
Как здесь Стругацкий сидит, он не пророк – Стругацкий. Он исполняет
функции пророка в данный момент, понимаешь? А пророк ли он – это дело темное,
скорее всего, не пророк. Но функции пророка исполняет. И Румата так же.
С точки зрения тамошнего общества, это было существо, выполнявшее функции
Бога. То есть от Бога очень мало отличающееся. Теолог Арканарский, конечно,
сразу бы сказал, что это не Бог. Но тетя Мотя не видит разницу между тем
Богом, которого она себе представляет, и доном Руматой. Тетя Мотя не видит
этой разницы! И когда я с тобой говорил, я говорил, как теолог.
В.К.: А Христос был Богом?
Б.С.: Вот это интересный вопрос! С моей точки зрения, Христос – это прежде
всего герой прекрасного литературного произведения. Вот как я лично рассматриваю
Христа. Для меня понятие божественности Христа –
это литературный прием, и не более того. Для меня это замечательный
литературный герой, придуманный гением! Человек, который своей смертью,
своими муками искупил грехи всего человечества! Ведь это придумать было
надо такую вот идею!
В.К.: Я этого как раз в христианстве не понимаю.
Б.С.: А это, наверное, потому, что ты с какой-то теологической стороны
подходишь. А ты подходи к этому практически! К тебе приходят и говорят:
вот, Вадим Николаевич, есть такое предложение. Весь мир мучается. Дети
гибнут, понимаешь, захлебываются крупозным воспалением легких, умирают
от голода, от ран... Давайте так договоримся: мы Вас распнем, вы промучаетесь
сутки, зато все это на Земле исчезнет. Вот ведь задача как ставится! И
вот сидит Вадим Николаевич, чешет репу и кусает ногти... Я так смотрю на
деяния Христа.
И с этой точки зрения мне даже неинтересно считать его Богом! Для меня
это человек, который совершает высочайший нравственный подвиг, какой может
вообще человек совершить. Отдает себя во имя счастья других! Даже когда
мать умирает во имя ребенка – и то это подвиг неописуемой красоты. А
тут человек гибнет мучительно ради совершенно посторонних, незнакомых
ему людей... Поэтому для меня вопрос – был ли Христос Богом – не так
уж важен. Для меня и Румата, кстати, играет роль не столько Бога, сколько
Христа. Человек, который мучается, не в силах помочь. Потому что он видит,
что что-то изменить можно только ценой большой крови, а он не может кровь
проливать! Он так воспитан, что кровь проливать не может.
В.К.: В этом разница с Христом. Христос знал, что делает то, что нужно,
он учил, как в Евангелии говорится, «как власть имеющий», и не
сомневался. Как думал, так и делал.
Б.С.: Между прочим, из Евангелия абсолютно не следует, что думал Христос.
Мы знаем, что он говорил. А что он думал – это вопрос. Но для тебя, Вадим,
видимо, большую ценность представляет учение Христа, проповедь Христа.
Для меня это вещи второстепенные. Для меня подвиг Христа затмевает все
остальное. Я тебе говорю, что если бы он ничего не сказал, чудес бы не
совершал, Нагорной проповеди бы не было, а просто умер бы за человечество
– для меня он все равно был бы Христом. Вот это главное, с моей точки зрения.
Потому что проповедь его, честно
говоря, меня не убеждает, она очень противоречива. В разных Евангелиях
он говорит разное. В одном и том же Евангелии на разных страницах он говорит
разные вещи. То он говорит о христианском милосердии и смирении, то он
говорит – не мир я принес, но меч... В нашем романе «Отягощенные
злом» есть некая трактовка этому. Ну, ладно, ну что, так все, или
еще что-нибудь?
С.Я.: Все, Борис Натанович. Большое Вам спасибо за беседы!
Б.С.: Ну, спасибо!
Я выключаю диктофон, сматываю и упаковываю свою технику. Борис Стругацкий,
по-моему, довольный, что все наконец кончилось, вдруг с любопытством спрашивает:
«А интересно, Сергей, что Вы будете делать, если ничего не записалось?»
Я молчу и долго мрачно смотрю ему в глаза. Даже проверять отказываюсь
– потом, в гостинице, набравшись духа...
А Борис Натанович говорит с В.Н.Карпинским о компьютерах, обсуждает
языки программирования и преимущества разных редакторов. Вдруг он неожиданно
рассказывает, что, помимо всего прочего, занимается численным моделированием
динамики шаровых звездных скоплений. Конечно, не больших, а так – несколько
звезд. Удивительно интересные результаты получаются!
– Вы их не публикуете? – спрашиваю я.
– Да нет, – как-то смущенно отзывается Стругацкий. – Это же для себя.
Просто интересно.
Я говорю о приближающемся юбилее «Советской Молодежи». На
листке бумаги появляются слова:
ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ И УДАЧИ. БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ. ЦЕНИТЕ ЕГО.
И подпись – Борис Стругацкий.
P.S. А диктофон все-таки не подвел. Благодаря ему и появилась обработанная
и исправленная всеми тремя участниками запись этого разговора.
P.P.S. Остался вопрос, который я хотел задать, да так и не решился.
Неделей раньше этот вопрос задала Виктория Волошина из «Московских
новостей». Цитирую это интервью.
МН: Вы закончили первую часть нового романа...
– Комментариев не будет.
Нельзя говорить о незаконченных вещах. Да и пишется с таким трудом, что
говорить об этом неохота, тяжело одному...
Оставьте Ваши вопросы, комментарии и предложения.
|