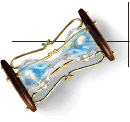
|
|

|
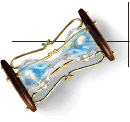
|
|
|
ЛЕНИНГРАДСКИЙ СЕМИНАР ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ Борис СТРУГАЦКИЙ КОММЕНТАРИИ К ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ "УЛИТКА НА СКЛОНЕ" Выступление и беседа в Красной гостиной ленинградского Дома писателя им. В.В.Маяковского 13 апреля 1987 года
Может возникнуть вопрос, почему я взял именно «Улитку...». Ну,
во-первых, «Улитка...» – это повесть необычная для нас, стоящая особняком.
Повесть, которая явилась определенным тупиком, повесть, повторить которую
оказалось невозможным, и которая, вероятно, не нуждается в повторении. В
этом смысле она необычна. Во-вторых, «Улитка...» – повесть, необычная по
методике ее написания. Вообще говоря, всякий человек, который написал в
своей жизни хотя бы двадцать авторских листов, знает, что существует всего
две методики написания фантастических романов. Методика номер один – это
работа от концепции. Вы берете откуда-то, высасываете из пальца,
эвристически подходите к какой-то концепции, к какой-то теореме, к некоей
формулировке, которая касается свойств общества, мира, Вселенной, а затем
создаете ситуацию, которая наилучшим образом демонстрирует эту самую
концепцию. Второй путь, сами понимаете, обратный. Вы отталкиваетесь от
ситуации, которая почему-то поражает ваше воображение, и, исходя из этой
ситуации, создаете мир, одной из граней коего обязательно будет
определенная концепция. Если ситуация интересная, полная, захватывает
большие куски мира, то рано или поздно откуда-то выделится концепция и
станет если не стержнем вещи, то во всяком случае, значительной, важной
его частью.
Ну, чтобы не говорить голословно... Характерный пример повести,
которая возникла из ситуации, это – «Далекая Радуга». Вот возникла
совершенно не новая, заметьте, очень старая ситуация – катастрофа, да,
человечество гибнет, то есть, маленькая часть человечества, но гибнет
целиком – как ведут себя люди в этой ситуации? Сама по себе ситуация
породила все остальное: там появились потом концепции, связанные со
свойствами коммунистического общества, там... появились, ну... образы,
появились люди, появились приключения, все что угодно. Возникло все. Из
ситуации. Второй пример, противоположного типа – это, скажем, «Хищные вещи
века». Там все возникло из концепции, из представления о том тупике, в
который попадет человеческое общество, если оно будет развиваться по тому
пути, по которому оно развивается сейчас. Если мы не научимся делать так,
чтобы большинство, пусть не все, но хотя бы большинство людей находили
счастье в удовлетворении духовных потребностей, то мы влезем вот в тот
тупик, который, в конце концов, был описан нами в «Хищных вещах века».
Началось все с концепции, с определенного представления о ходе
человеческого развития, и на базе этой концепции была построена ситуация,
целый мир, люди, детектив, все что угодно.
Хотя мне кажется, что упpавлять методикой нельзя. Нельзя
поставить задачу: вот теперь напишу-ка я концептуальную повесть и
придумаю-ка я концепцию. Нельзя придумать концепцию, она приходит
откуда-то, из разговоров и споров, из книг – она откуда-то приходит, и
тогда, если она возникла, если она содержательна, вы рождаете из нее
ситуацию. То же самое – с ситуацией...
«Улитка на склоне» в этом плане тоже представляет определенный
интерес. Потому, что эта повесть, если угодно, третьего типа. Это
повесть кризисная. Не знаю, все ли присутствующие знакомы с таким,
достаточно жутким, явлением в жизни каждого автора – состоянием кризиса.
Когда автор мечется между концепцией и ситуацией, не понимая, что выбрать
за основу. Сначала ему нравится концепция, но из этой концепции не
получается интересной ситуации. Когда же он находит интересную ситуацию,
он не видит в ней никакой концепции, а просто там какое-то
развлеченчество... И вот он мечется между двумя этими фундаментальными
методиками, как тот самый господь бог, которого спросили, может ли он
создать камень, который сам же не сможет поднять. Автор начинает
«зуммерить» – и это кризис. Это очень болезненно и неприятно для него. Это
делает написание произведения похожим на самые обыкновенные роды. А опыт
показывает, что, чем мучительнее «роды», тем любопытнее получается
результат. Так вот, «Улитка...» – вещь кризисная, и этим она отличается от
упомянутых выше «Далекой Радуги» и «Хищных вещей века», которые, в общем,
родились благополучно, у них была легкая судьба, родились они легко,
спокойно. Требовалось только трудолюбие и не требовалось какой-то жуткой
эмоциональной потогонии, если можно так выразиться. Итак, «Улитка на
склоне»...
Наверное, надо бы начать эпически: 4 марта 1965 года два молодых
новоиспеченных писателя – и года еще не прошло, как они стали членами
Союза – впервые в своей жизни приезжают в Дом творчества в Гагры. Все
прекрасно, замечательная погода, великолепное обслуживание, вкусная еда,
исключительное здоровье, прекрасное самочувствие, карманы полны идей,
ситуаций. Все очень хорошо! Их поселяют в корпусе для особо избранных лиц
– больше никогда в жизни они уже в этот корпус попасть не смогли. А там
они попали, потому что это было межсезонье, и в гагринском Доме творчества
жили только братья Стругацкие и футбольная команда «Зенит», которая там
проводила сборы. Все было бы очень хорошо, если бы не выяснилось вдруг,
что, оказывается, Стругацкие-то находятся в состоянии творческого кризиса.
Они этого не знают. Им казалось, что все в порядке, казалось, что все
ясно, понятно. Ясно, чем надо заниматься, и ясно, о чем они будут писать.
Я не могу не уехать в историю, потому что многое, наверное, из того,
что я буду говорить, будет не совсем понятно, особенно людям молодым,
которые в то время, может быть, даже еще не родились.
Я опускаю 1953 год, март, когда умер Сталин. Я опускаю лето 1953
года, еще более важная эпоха, когда был разоблачен и уничтожен Берия. Я
пропускаю тот период, который Илья Эренбург назвал «оттепелью». Я
пропускаю XX съезд партии, который открыл глаза слепым и открыл ворота в
будущее... Мы-то, в общем, и не знали, что есть какие-то ворота. Я
пропускаю 1957 год, когда выходит «Туманность Андромеды», открывшая нам
глаза как поклонникам фантастики. Это, конечно, в государственном
масштабе событие было не великое, но для всех любителей фантастики это
было событие первого класса. Я пропускаю 1958 год, когда отгремела
короткая, но чрезвычайно яростная дискуссия по поводу романа,
закончившаяся полной победой сторонников Ефремова. Вот это время – конец
50-х, начало 60-х годов в том плане, который нас интересует, было
замечательно тем, что громадный слой общества обнаружил Будущее. Раньше
Будущее существовало как некая философская категория. Оно, конечно, было,
и все понимали, что оно есть, что оно светлое. Это было всем ясно, но
никто на самом деле на эту тему не думал, потому что все это было
совершенно абстрактно. Описанные мною вкратце события – они сделали
Будущее как бы конкретным. Оказалось, что Будущее вообще, и светлое
Будущее – коммунизм – это не есть нечто, раз и навсегда данное классиками.
Это то, о чем надо говорить, что достойно самых серьезных дискуссий, и
что, по-видимому, зависит от нас. Вот эта мысль тогда была очень-очень
новой. И мы тогда все говорили о Будущем. Ну, это, конечно, не значит, что
в колхозах говорили о Будущем – в колхозах, я думаю, было не до того,
время было очень тяжелое... Не думаю, что и в цехах говорили – там
какие-то дискуссии... Но определенный слой интеллигенции, то самый,
которому открыл глаза XX съезд, о Будущем говорил очень много.
«Туманность Андромеды» вызвала самые разноречивые толки и самые
разноречивые дискуссии. Были не только враги и сторонники. О врагах
не будем говорить – это были просто идиоты и жлобы. Но если говорить о
сторонниках, то они тоже были вовсе не едины. Это все было не так просто.
Что касается братьев Стругацких, то для них вдруг стало ясно, что есть
чисто литературная задача, которой надлежит заняться
немедленно: надо написать о Будущем не вообще, а надо создать такой облик
грядущего, который был бы, во-первых, привлекательным,
потому что общество, скажем, описанное у Ефремова, далеко не с каждой
точки зрения привлекательно, это общество холодное, это общество не для
всех, это, если угодно, элитное общество. Нужно создать общество,
которое было бы устроено ясно и просто. Это должно быть общество,
структура которого, сама по себе, была бы доступна и легко воспринимаема
каждым читателем, каждым школьником. И, наконец, очень важное для нас
условие – мы должны были описать такое общество, которое было бы
достоверным. Достоверное общество должно быть населено
достоверными людьми. Вот тогда молодые и, конечно, восторженно-глуповатые
братья Стругацкие выдвинули свой тезис о том, что главные конфликты
Будущего – это конфликты лучшего с хорошим. Этот тезис очень понравился
им. И литературным критикам тоже – они пытались его подхватить как Знамя,
как Лозунг. Насколько я помню, Би-Би-Си выступило с ехидной заметкой, мол,
нечего им там больше делать, в Советском Союзе, как лучшему бороться с
хорошим, а других, видите-ли, у них проблем нет. Но по тому времени эта
идея была полезная, потому что она позволяла создавать вот это общество
«Возвращения», общество, описанное нами в «Полдень, XXII век», общество,
состоящее из людей в общем-то хороших с одной стороны, вполне хороших, а с
другой стороны – понятных и близких. Это были младшие научные сотрудники,
энтузиасты своего дела, которые прямо вот из научно-исследовательских
институтов 60-го года перепорхнули в XXII век. Это было очень понятно, это
очень нравилось и нашим молодым друзьям, и тогдашним школьникам. Всем было
понятно. Взрослые, конечно, плохо себе представляли, как это может
произойти, и знали, что это молодо-зелено, что человек не сохраняет
энтузиазма. Мы говорили: ну и что, что молоды – это ведь очень просто: все
человеческие качества, как известно, распределены по гауссиане. Доброта,
например. Большинство людей имеет вот какую-то среднюю доброту. Некоторое
количество людей (их относительно мало) – исключительно злобные личности,
в них доброты почти нет. И наоборот, есть люди с повышенной мерой добра –
их тоже относительно мало. Так вот, движение человечества в Будущее
заключается в том, что эта кривая направленная просто передвигается по оси абсцисс. То
есть, то среднее, медиана добра, которая характерна для нас сегодня, через
двести лет окажется в левой части, такие люди, с такой мерой добра, будут
редкостью. А совершенно распространенными через двести лет станут люди,
которые сейчас находятся в правом крыле и которых сейчас так мало. Вот так
вот мы себе представляли это самое движение в Будущее. Не знаю, насколько
это было полезно для наших читателей, но мы из этого определенную пользу
извлекли.
Это был определенный период, который мы благополучно прошли.
Называйте это – болезнь. А, может, кто-то это считает расцветом. Это уж
как вам будет угодно. Но через это надо было пройти, и через это мы
прошли.
Однако довольно скоро, очевидно, по мере взросления, а также по мере
накопления жизненного опыта мы сделали большое открытие – мы обнаружили,
что далеко не все окружающие нас люди считают описываемое нами
блистательное и светлое Будущее таким уж блистательным и светлым. Во
всяком случае, у этого будущего есть очень много врагов. Часть этих врагов – это просто злобные невежественные дураки, они составляют меньшинство, и
можно было бы о них не говорить. Но! Существует, оказывается, огромный,
обширный пласт людей – их нельзя назвать злобными, нельзя назвать
дураками, но которые не хотят этого Будущего, оно им не нужно! Ибо то
Будущее, которое мы представляли себе таким замечательным, предусматривало
в максимальных количествах поглощение духовных благ. А, оказывается,
огромному большинству людей духовные блага просто не нужны. Не потому, что
они какие-то особенно глупые, а просто потому, что они не знали об их
существовании.
Вырастает фигура обывателя-мещанина, которая нам тогда кажется
главным врагом коммунизма, врагом номер один, и которого мы, по мере сил
своих и возможностей, принялись с азартом изображать в «Попытке к
бегству», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и, в
особенности, «Хищных вещах века». Стало ясно, что коммунистические
перспективы застилает какой-то неприятный непрозрачный туман. Стал
немножко возникать вопрос: а как, собственно, вот те реальные люди,
которых мы видим вокруг себя, как они вдруг окажутся в коммунизме? Где та
сила, которая сделает их героями повести «Полдень, XXII век»? Нас учили,
что эта сила очень простая: общий социальный прогресс, рост материального
благосостояния, уничтожение нищеты, и как следствие – когда нищета будет
уничтожена, когда каждый получит то, что хочет – вот тут-то исчезнут все
язвы, и все люди станут хорошими. Вот этот самый тезис, который казался
нам в школе и на первых курсах университета совершенно очевидным, вдруг
этот тезис дал трещину. Существует же множество государств, уровень жизни
в которых намного выше, чем у нас, но тем не менее там полным-полно всякой
дряни. Мир этих нищих духом, даже живущих в отдельных квартирах,
по-прежнему наполнен алкоголизмом, наркоманией, суицидностью, жестокостью.
Здесь дело было не в том, тут что-то не то! Вот с этим ощущением «что-то не то» братья Стругацкие и приезжают в Гагры.
Они привозят с собой задуманный роман. Роман, который целиком и
полностью был направлен против злобного мещанина, человека,
интересующегося исключительно миром материального и бесконечно далекого от
мира духовного. Ну, собственно, была только ситуация. Вот остров. На этом
острове оказываются люди – терпят, скажем, кораблекрушение, ну, не знаю,
что... И видят там обезьян. Обезьяны ведут себя как-то так очень странно.
На острове происходят смерти, на острове происходят загадочные события. А
потом выясняется, что это не обычные обезьяны, а что это некие
параобезьяны, псевдообезьяны, которые питаются человеческими
мыслями. Они высасывают из человека интеллект, так же, как мы, скажем,
высасываем энергию солнца. Ну, солнце от этого не страдает, а люди вот
умирают. Символ, как вы понимаете, достаточно прозрачный: жирные, жаждущие
только материального существа живут за счет человеческого интеллекта. Вот
так это выглядело первоначально.
Первый самый день мы занимались тем, что отрабатывали эту идею. Очень
скоро мы отказались от обезьян. Какое нам дело – какие-то обезьяны,
какой-то остров... Нас общество интересует! Непонятно, стоит ли запускать
в наше общество это... этот обезьянник. Вряд ли стоит, вряд ли напечатают.
Но, в конце концов, можно взять некое государство неопределенного типа. И
это будут не обезьяны. Это будет параллельная эволюция! Это будет тень
белковой жизни на Земле. Оказывается, с незапамятных времен на земле
существует параллельный тип живых существ, не имеющих самостоятельной
формы. Это некая протоплазма-мимикроид, как
зафиксировано в нашем дневнике. Протоплазма-мимикроид заселяется в живые
существа и питается их соками. Она уже уничтожила в свое время трилобитов.
Потом она уничтожила динозавров. Потом эта протоплазма-мимикроид напала на
неандертальцев. Это было трудней, неандертальцы имели уже зачатки разума,
с ними было труднее бороться, но неандертальцы тоже, как известно, были
уничтожены протоплазмой. Сейчас эта протоплазма вовсю размножается на
людях. При этом человек не меняется, в общем-то, в своих проявлениях. Он
так и остается, просто он перестает интересоваться какими-то духовными
проблемами. Остаются только проблемы материальные – пожрать, попить,
поспать, поглазеть... Что мешает ей захватить весь мир? У нее есть такое
качество – когда человек усиленно размышляет, протоплазма не выдерживает,
начинает разваливаться, разливается как кисель.
Вот эти очаровательные картинки стояли перед нашими глазами. Как
видите, здесь была и концепция, здесь была и ситуация... Но из этого
ничего не вышло. Сейчас я уже не знаю, почему... Это очень трудно ответить – почему получается, почему не получается. Ну вот не шло.
Это был, кстати, уже не первый кризис. Мы уже один раз испытали
мощный приступ импотенции, когда пытались написать «Попытку к бегству», но
этот приступ кончился благополучно. И вот сейчас это началось снова...
Вообще это чувство, когда у автора не получается задуманное... казалось
бы, хорошо задуманный роман – это примерно то же самое, что, наверное,
должен был испытывать Дон Жуан, которому врач сказал: «Знаете... Все!».
Очень страшное и очень неприятное ощущение. Полные паники, мы принялись
судорожно листать наши заметки, где у нас, как и у всякого порядочного
молодого писателя, был громадный список всевозможных сюжетов, идей. И
остановились – не на концептуальной, правда, а на ситуационной... Нас
давно интересовала такая вот ситуация: на некоей планете живут два вида
разумных существ. Между ними идет борьба, война. Биологическая война,
война не технологическая, которая для наблюдателя извне на войну вообще не
похожа. И, в результате, воспринимается как сгущение атмосферы, либо как
вообще созидательная деятельность некоего разума. Но никак не война...
Вот земляне прилетают, и, ах, вот оказываются в такой ситуации. Такая
ситуация нам казалась очень интересной когда-то, и мы в отчаянии
решили попробовать ее. И вот мы сели и начали внимательно, осторожно
разрабатывать эту ситуацию. Пандора. Конечно, это была Пандора. Странная
планета, где обитают странные существа. Прекрасное место для нашей
задумки. Пандора. Планета, покрытая джунглями, сплошь заросшая лесом. Из
этого леса кое-где торчат, наподобие Мату-Гроссу эти самые белые
скалы, плоскогорья, наподобие описанных Конан-Дойлем в «Затерянном мире».
Вот на вершинах этих скал, практически необитаемых, земляне устраивают
свои базы. Они ведут наблюдение за этой планетой, не вмешиваясь в ее
жизнь, и, собственно, не пытаясь вмешиваться, потому что земляне просто не
понимают, что тут происходит. Джунгли живут какой-то своей жизнью. Иногда
там исчезают люди, иногда их удается найти, иногда нет. Пандора
превращается землянами во что-то вроде заповедника. Тогда еще не было
всеобщей экологической борьбы, не было «Красной книги». Поэтому одной из
распространенных профессий наших героев была охота. И вот охотники
приезжают на Пандору для того, чтобы убивать тахоргов, этих странных
существ.
И там, значит, сидит Горбовский, на этой планете. Горбовский –
наш старый герой, в какой-то степени – олицетворение человека будущего,
воплощение доброты и воплощение ума, воплощение интеллигентности в лучшем
смысле этого слова. Он сидит на краю этого гигантского обрыва, свесив
ноги, смотрит на странный лес, который расстилается под ним, чего-то ждет.
В то время нас чрезвычайно интересует проблема, связанная с созданием все
более и более развитого и разработанного облика Будущего: чем там люди
занимаются. Нас никак не покидает этот вопрос. Где там движущая сила?! Все
общества докоммунистические развивались, потому что там имело место
противоречие между производительными силами и производственными
отношениями. Наконец достигнут коммунизм, нет больше этого противоречия.
Что же движет человечество дальше?! Мучительный этот вопрос, над которым
мы думали очень много лет, и тогда был просто пик наших размышлений. Мы
представляли себе это общество, где решены уже все социальные проблемы
давным-давно, где решен целый ряд очень сложных и очень важных научных
проблем – проблема человекоподобного робота, проблема контакта с другими
цивилизациями, проблема воспитания, разумеется. Человек становится
беспечен. Появляется человек играющий. Вот тогда возникает у нас этот
образ – человек играющий. Когда все необходимое делается автоматически,
миллиарды людей занимаются только тем, чем им нравится заниматься. Как мы
сейчас играем, так они занимаются наукой, исследованиями, полетами в
космос, погружениями в глубины. Так они изучают Пандору – небрежно, легко,
играя, веселясь. Человек играющий...
Горбовскому страшно. Горбовский понимает, что добром такая ситуация
кончиться не может, что рано или поздно человечество напорется в Космосе
на некую скрытую угрозу, которую представить себе сейчас даже не может, и
тогда человечество ожидает шок, человечество ожидает стыд, смерти и все
такое... И вот Горбовский, пользуясь своим сверхъестественным чутьем на
необычайность, таскается с планеты на планету и ищет странное. Что – он сам не знает. Вот эта Пандора, которую земляне осваивают уже
несколько десятков лет, кажется ему средоточием каких-то угроз, он сам не
знает каких. Но он сидит здесь для того, чтобы оказаться на месте в тот
момент, когда что-то произойдет. Сидит для того, чтобы помешать людям
совершать поступки опрометчивые, торопливые...
Это происходит на Горе. В Лесу происходят свои дела. Все, что
происходит в Лесу, возникло из двух соображений, полученных нами извне. Мы
где-то что-то такое вычитали, по-моему, это были самиздатовские статьи
Давидсона, где мы вычитали такую броскую фразу о том, что человечество
могло бы прекрасно развиваться только за счет партеногенеза. Берется
женское яйцо, и под воздействием слабо индуцированного тока оно начинает
делиться, получается точная, разумеется, точная, копия матери. Мужчины не
нужны. И вот мы населяем наш Лес существами по крайней мере трех сортов:
во-первых, это колонисты, это разумная раса, которая ведет войну с
негуманоидами; во-вторых, это женщины, отколовшиеся от колонистов,
размножающиеся партеногенетически и создавшие свою, очень сложную
биологическую <в исх. было «идеологическую»> цивилизацию, с которой они
слились; и, наконец, несчастные крестьяне – мужчины и женщины – про
которых просто впопыхах забыли. Они жили себе в деревнях... Когда нужен
был хлеб, эти люди были нужны. Научились выращивать хлеб без крестьян –
про них забыли. Они живут там, базируясь на старинной технологии, со
старинными обычаями, совершенно оторванные от реальной жизни.
Вот в этот шевелящийся зеленый ад попадает один землянин. Он там
живет и исследует этот мир, не в силах выбраться. Вот так возникают первые
наметки этой вещи. Идет разработка глав. Мы уже понимаем, что повесть
должна быть построена таким образом: глава – вид сверху, глава – вид
изнутри. Мы придумываем (и это сыграло большую роль), что речь этих
крестьян должна быть медлительна, жутко неопределенна, и все они должны
врать. Они врут не потому, что они какие-то нехорошие люди, просто мир так
устроен, что никто ничего толком не знает, все передают слухи и все
поэтому врут. И вот эти медлительные существа, всеми заброшенные, никому
не нужные – появляются в нашем представлении как будущее в природе.
Выясняется, что очень интересно писать этих людей, появляется какое-то
сочувствие к ним...
Мы начинаем писать, пишем главу за главой, глава – Горбовский, глава – Атос-Сидоров, постепенно из ситуации – сначала была придумана ситуация,
я вам говорил – начинает выкристаллизовываться концепция, очень важная,
очень для нас полезная. Концепция взаимоотношения между человеком и
законами природы и общества. Мы знаем, что все движения наши, нравственные
и физические, управляются определенными законами. Мы знаем, что каждый
человек, который пытается переть против закона, рано или поздно будет
разрушен, уничтожен. Мы знаем, что оседлать Историю, как говорится, может
только тот человек, который действует в соответствии с законами. Что
делать человеку, которому не нравятся законы?! Когда речь
идет о физических законах, ну что же, там проще, мы как-то все привыкли –
ну... Да, если яблоко уронить – оно упадет, оно не взлетит наверх. Ну,
что? Ну жалко, конечно. Но тем не менее это факт, с которым можно
смириться. Гораздо труднее смириться, например, ну скажем... Попытайтесь
представить себе... Вот я сейчас Зощенко читаю, которого я раньше никогда
не знал. Зощенко описывает мир людей, которые до революции были всё, а
после революции стали ничто. Люди, принадлежавшие к привилегированному
классу. С детства они знали, что мир создан для них, Россия создана для
них – и все будет у них хорошо. И вдруг мир рухнул. Вдруг те социальные
законы, к которым они привыкли, куда-то исчезли, и начали действовать
другие законы. И самые умные из этих людей прекрасно понимали, что это
законы общества, что это не злая воля бросила их в грязь. Из князи да в
грязи. Как они должны к этому относиться? Как должен относиться человек к
закону общества, который ему кажется плохим? Можно ли вообще ставить так
вопрос? Плохой закон общества и хороший закон общества. То, что
производительные силы непрерывно развиваются – это хорошо или плохо? То,
что производительные силы рано или поздно войдут в противоречие с
производственными отношениями – это закон общества. Это хорошо или плохо?
Я помню, мы много рассуждали на эту тему, нам было очень интересно. Мы
обменивались самыми разнообразными примерами, и мы поняли, что мы
фактически об этом пишем, потому что судьба нашего землянина, оказавшегося
среди крестьян, замордованных и обреченных – эта судьба как раз и содержит
в себе если не ответ – то, по крайней мере, вопрос. Там ведь что
происходит. Там существует прогрессивная цивилизация, вот эта вот
биологическая цивилизация женщин. И есть остатки прежнего вида гомо
сапиенс, то, что будет неумолимо и обязательно уничтожено развивающимся
прогрессом.
И вот наш землянин, человек с другой планеты, попадающий в эту
ситуацию – как он должен относиться к этой ситуации? Историческая правда
на стороне этих отвратительных баб. Сочувствие героя на стороне этих
невежественных, туповатых, беспомощных и нелепых мужичков, которые его
все-таки, этого человека, как-никак спасли, выходили, жену ему дали, хату
ему дали, сделали его своим. Что должен делать, как вести себя
цивилизованный человек, понимающий, куда идет прогресс? Как он должен
относиться к этому прогрессу, если ему этот прогресс поперек горла?! Эта
концепция – она не стала стержнем вещи, конечно, не могла стать, но она
стала какой-то значительной гранью. Если убрать эту концепцию, мне
кажется, очень сильно обеднеет эта часть, с Лесом.
6 марта мы написали первые строчки: «Сверху Лес был как пятнистая
пена». 20 марта мы закончили повесть. Да, мы писали очень быстро. Коль
скоро план был разработан в подробностях, мы начинали писать очень быстро.
Но тут нас ждал сюрприз – когда, поставивши последнюю точку, мы
обнаружили, что написали отвратительную вещь, что она не лезет ни в какие
ворота. Мы вдруг поняли, что нам нет абсолютно никакого дела до этого
Горбовского. При чем здесь коммунизм? При чем здесь светлое будущее с его
проблемами? Черт побери! Вокруг черт знает что происходит, а мы занимаемся
выдумыванием проблем для наших потомков. Да неужели же сами потомки не
сумеют в этом разобраться, когда дело до этого дойдет?! И уже 21 марта мы
решили, что повесть считать законченной мы не можем, что с ней надо что-то
делать. И тогда было еще совершенно неясно – что делать. Было ясно,
что те главы, которые касаются лесной истории – они годятся. Почему
годятся? Потому что там ситуация слилась с концепцией, и потому, что там
все закончено. Потому, что эта повесть может даже существовать отдельно. А
что касается части, связанной с Горбовским, то это никуда не годится. Это
нам неинтересно. Чем заменить? Вот на этот-то мрачный вопрос мы ответа не
знали. Кризис привел нас к тому, что у нас получилась половина повести. И
вот такой двойной кризис мы не переживали еще никогда...
В дневнике довольно подробно расписана вся работа над повестью.
Подробно записывается все, что происходит в Лесу, все это сначала
сочинялось – какие чудеса в лесу, что там происходит, придумывались
отдельные реплики. Оба мы были страшно рады, когда придумали, что
крестьяне все врут, что наш герой совершенно не способен отличить их
правду от лжи. Наш герой пытается выбраться из Леса, но он ничего не
знает, он не знает даже, в какую сторону идти. И когда он пытается у своих
односельчан, так сказать, у своих хозяев узнать, куда ему идти, один
говорит одно, другой – другое, и все врут. И он как муха, приклеенная к
мухомору, никуда не может двинуться. Он крутится на одном месте. Это нам
тогда тоже очень нравилось. Нам нравилось, что они многословны –
специально отмечено в дневнике с восторгом – а ля Редклифф. Редклифф – это
герой Фолкнера (как раз тогда вышла его трилогия «Особняк», «Город»
«Деревушка»), человек, который длинно и вязко рассказывает. Но Редклифф,
будучи человеком с американского Юга, говорит хотя и длинно, но говорит
осмысленно. Наши герои по замыслу должны были говорить не только длинно,
не только вязко, но и бессмысленно – так, чтобы все время ускользало
ощущение смысла от нашего героя. Нам очень понравилось, что мы придумали
нашему герою местную кличку – Молчун. Почему, собственно говоря, Молчун?
Он не молчал, он говорил. Дело в том, что по своей земной привычке он
говорит раз в пять меньше, чем окружающие. Для того, чтобы высказать
мысль, ему достаточно одной фразы. Деревенские говорят ему: «Да ты
говори-то поподробнее, только начнешь тебя понимать, а ты уже замолчал»...
Я очень рад был вставить это, потому что нечто подобное я заметил на
заседаниях нашей секции. Заметил, что мои выступления как-то в общем
оставляют... Потому что, принадлежа к людям-научникам, я привык говорить
коротко, и только то, что нужно для дела. У меня не было предисловия,
завязки, кульминации, развязки. Я просто вставал и говорил то, что думаю.
И садился. Я сначала не понимал, думал: может, я невнятно или несвязно
говорил? Но потом пришла именно эта мысль, что люди просто не успевают!
Они только приготовились слушать, а он уже сел...
Потом мы встретились в апреле. Вот я сейчас не помню кому
принадлежала эта гениальная мысль, и, к сожалению, в дневнике этого нет. В
дневнике, собственно, сама по себе мысль отсутствует. Понимаете,
здесь нет перехода... 28 апреля вдруг появляется запись: Горбовский –
Перец, Атос – Зыков. Понимаете, появляется Перец впервые. Это значит, что
идея о том, что надо убрать будущее и вставить Настоящее, уже появилась.
Появляются имена. Начинается разработка линии «Перец» уже в том виде, в
котором она есть. «Не состоялась встреча-рандеву с начальником, который
иногда выходит делать зарядку», «договаривается с шофером на завтра»...
Вот что-то тут произошло. Каким-то образом и кому-то пришло в голову –
мысль о том, что одну фантастическую линию, линию Леса, надо было
дополнить средой, но уже <было «тоже»> символической. Не
научно-фантастической, а символической. Какой-то человек должен был
мучительно пытаться выбраться из Леса, а какой-то другой человек, совсем
другого типа и другого склада, должен мучительно стараться попасть в Лес,
чтобы узнать, что там происходит. Как возникла эта мысль – сейчас уже
восстановить невозможно. Но я прекрасно помню, как возникла идея
художественного приема, на котором стоит вся перецовская часть; точно так
же, как вся лесная часть стоит на приеме вязкой речи, точно так же вся
перецовская часть стоит на кафкианском мире, на попытке изобразить мир,
который неотличим от сна. То есть идет совершенно реалистическое
повествование, и вдруг как бы в сон переходит это реалистическое
повествование. Этот прием мы, как нам казалось, нашли у Кафки. Я не знаю,
можно ли так трактовать Кафку. Наверное, можно. Можно. У него это
вообще-то довольно четко видно. Особенно в «Процессе». Когда главный
герой, совершая совершенно реалистические поступки, вдруг начинает
действовать как бы во сне. Вот этот прием показался нам чрезвычайно
полезным, и именно он лежит в основе этой части, которая может быть
названа «Управление». И вот как из ситуации рождается концепция. В один
прекрасный момент появляется замечательная запись, а именно 30 апреля это
все происходит. Уже появляется Управление, Группа Искоренения, Группа
Изучения, Охраны, Научной Охраны... Мы накапливаем черточки, элементы мира – нелепого, но внутри себя замкнутого и совершенно непротиворечивого. И
вот кому-то из нас приходит в голову блистательная мысль: Лес – Будущее!
Вот после того, как была придумана эта концепция, которая осталась,
вообще-то говоря, скрытой для подавляющего большинства читателей, нам
стало писать очень легко. Лишнее доказательство того, что автор должен
иметь определенную концепцию вещи даже не столько для того, чтобы одарить
мир некоей идеей, а для того, чтобы у него все скомпоновалось. Как только
нам пришла мысль о том, что Лес символизирует Будущее, все сразу же встало
на свои места. Повесть перестала быть научно-фантастической (если она и
была такой) – она стала просто фантастической, гротесковой, символической,
как угодно. Появилась такая свобода, раскованность... Как хорошо! Что
такое Лес? Лес – это символ всего необычайного, всего непредставимого. Что
такое Будущее? Это то, про что мы ничего не знаем. Мы гадаем
безосновательно, у нас есть какие-то соображения, которые легко
разваливаются под давлением малейшего анализа. О Будущем мы знаем, на
самом деле, честно, положа руку на сердце, о Будущем мы знаем только одно – оно совершенно не похоже на наше представление о нем. Больше мы ничего
положительного о Будущем сказать не можем. Точно так же, как Александр
Сергеевич Пушкин никогда не мог бы себе представить нашего сегодняшнего
мира, то что для Александра Сергеевича главным свойством нашего мира
безусловно была бы его чудовищная нелепость, ни на что не похожесть, точно
так же и мы, по-видимому, рассматривать мир будущего можем. Мы не знаем,
будет ли мир Будущего хорош, будет ли он плох – мы в принципе не можем
ответить на этот вопрос. Он будет чужой, совершенно не похожий на наши
представления, к нему нельзя будет применять понятия «хороший», «плохой»,
«плоховатый», «ничего себе». Он просто чужой.
Тот Лес, который мы уже написали, прекрасно вписывается в эту
ситуацию. А чем это не Будущее, в конце концов? Почему бы не представить
себе, что в отдаленном будущем человечество сливается с природой,
становится в значительной мере частью ее. Оно уже перестает убивать, а,
как говорит женщина у нас в «Улитке на склоне»: «...Ты можешь сделать
живое мертвым?» – «Убить?» – «Да нет! Убить и рукоед может! А вот сделать
живое мертвым!»... Появляется какой-то совершенно новый нюанс, какое-то
даже совершенно другое отношение к биологическому миру. Человек даже
перестает быть человеком в современном смысле. Вот эта вот биологическая
цивилизация, которая должна будет существеннейшим образом переродиться,
безусловно. Что такое вид, совершенно переродившийся? Это прежде всего
вид, например, потерявший какие-то инстинкты. Мы живем, управляемые
инстинктами. Один из них – это инстинкт размножения. Отнимите его.
Инстинкт размножения человека весь стоит на двуполости, на
бисексуальности. Уберите один пол... Это будут совершенно чудовищные
существа, которых мы не можем оценивать. Другие представления о том, что
должно и что не должно. Почему бы не представить, что в будущем именно так
все будет проворачиваться?
И вот тогда оказывается, что мы сидели месяц и писали не зря! Мы,
оказывается, создавали совершенно новую модель Будущего! Мы такого себе и
представить не могли! Причем не просто модель, не стационарный мир в стиле
Олдоса Хаксли или там Оруэлла. Не застывший, а мир в движении. Мир, в
котором есть еще остатки прошлого, и они живут своей жизнью. И эти остатки
прошлого близки по своей психологии нам, и мы можем использовать их
психологию для того, чтобы передать наше отношение к этому миру Будущего.
Все наполняется каким-то новым смыслом. Становится очень интересно
работать с черновиком. Можно уже вставлять какие-то новые повороты, новые
ситуации. И в этом плане совершенно по другому выглядит не написанный еще
мир Управления. Что такое Управление тогда – в этой символической схеме?
Да очень просто – это Настоящее! Это Настоящее со всем его хаосом, со всей
его безмозглостью, которая удивительным образом сочетается с
многомудренностью. Это то самое Настоящее, в котором люди все время думают
о Будущем, живут ради Будущего, провозглашают лозунги во имя Будущего и в
то же время гадят на это Будущее, искореняют это Будущее, уничтожают его
всячески, стремятся превратить это Будущее в асфальтовую площадку,
стремятся превратить Лес, свое Будущее, в английский парк с газонами,
чтобы будущее было не такое, какое оно будет, а такое, каким нам хочется.
Понимаете? Появилась какая-то отстраненность, свобода! Стало очень легко
работать.
Вот такая это была счастливая идея, которая помогла нам сделать часть
«Управление», и которая, в общем то, что любопытно, осталась совершенно
закрытой для читателя. Из всех читателей, которых я знаю, по-моему, есть
только один или два человека, которые поняли. Хотя мы кое-где поразбросали
намеки на это. Мы взяли, во-первых, цитату из Пастернака: «За поворотом, в
глубине лесного лога готово будущее мне верней залога. Его уже не втянешь
в спор и не заластишь, оно распахнуто, как бор, все вширь, все настежь».
Вот в этой цитате ведь все сказано! Будущее как бор, будущее – Лес. Бор
распахнут, и уже ничего с ним не сделаешь, оно уже создано. Но как-то
никто не заметил, ни профессионалы, ни просто читатели. И, конечно, в этом
аспекте и цитата из Иссы тоже звучала: «Тихо, тихо ползи, улитка, по
склону Фудзи, вверх, до самых высот!». Здесь ведь тоже идет речь о
движении человека к Будущему. Ну, так я не жалею... Это ведь вопрос –
должны ли мы это рассматривать как наше поражение – то, что эта идея,
которая помогла нам сделать эту вещь емкой и многомерной, осталась
абсолютно непонятной читателю? Плохо это или хорошо? Черт его знает!
Наверное, дело не в этом. Наверное, важно, чтобы эта вещь порождала в
самых разных людях самые разные представления. И чем больше разных точек
зрения, тем эту вещь, наверное, следует считать более удачной. Ну... Я
просто не знаю, что вам еще рассказывать об этой истории. Но мне хочется
закончить этакой... Советы. Наставления. Некие нравственные теоремы,
которые должен принять к сведению каждый молодой писатель. Думаю, то, что
я сейчас скажу, хорошо известно половине из здесь присутствующих, а другая
половина, которая не думала на эту тему, когда услышит, то скажет: ну это
же всем ясно. И тем не менее я считаю своим долгом эту формулировку
произнести.
Первое. Надо быть щедрым. Надо помнить, что щедрость,
писательская щедрость, окупается. Каждая отброшенная идея сделала свое
положительное дело. Я уже не говорю о том, что, если идея хороша – если
идея плоха, то отбрасывайте ее, потому что она вам не нужна – если идея
хороша, то отбрасывайте ее без страха, вы ее вспомните, она придет.
Немножко в другом виде. Как нам, спустя двадцать лет, пришла в голову
мысль о человеке играющем, которую мы совсем забыли, а она вот пришла,
когда мы делали «Волны гасят ветер», и именно в той же самой формулировке.
Второе. Никогда не надо отчаиваться. Надо
помнить, что кризис, переживаемый вами – это прекрасно! Надо быть
счастливым каждый раз, когда вы чувствуете, что находитесь в кризисном
состоянии. Когда не получается, когда не идет, когда заколодило – это и
есть роды. А роды, как известно – это скажет вам любая мать – всегда
проходят с большим трудом. Это процесс, требующий огромной затраты
духовной и физической энергии. Конечно, приятно писать повести, когда они
сами собой выливаются из-под пера. Но я вот по собственному опыту могу
судить – не всякая легко получившаяся повесть плоха. Это так. Но зато
всякая повесть, родившаяся с трудом огромным – она всегда какая-то
особенная. Она не такая, как то, что было до, и не такая, как будет после.
Поэтому кризисов боятся не надо.
Ну и знаменитая триада, которую я вам уже много раз говорил и хочу
повторить еще раз. Вы должны быть оптимистами. Как бы
плохо вы не написали вашу повесть, у вас обязательно найдутся читатели – и
это будут тысячи читателей – которые сочтут вашу повесть почти шедевром. В
то же время надо быть скептиком. Как бы хорошо вы не
написали, обязательно найдутся читатели, и это будут тысячи людей, которые
будут искренне считать, что вы написали сущее барахло. И, наконец, надо
просто трезво относиться к своей работе. Как
бы хорошо, как бы плохо вы не написали вашу повесть, останутся
миллионы людей, которые будут к ней совершенно равнодушны –
написали вы ее, не написали... Вот такой вот маленький урок.
А теперь я рад буду ответить на ваши вопросы, если они у вас есть.
Есть?
СТОЛЯРОВ: А публикационная судьба «Улитки...»?
СТРУГАЦКИЙ: Да, с удовольствием. А как же! «Улитка» была закончена в
ноябре 1965 года, если не ошибаюсь. Мы не понесли ее в «Молодую Гвардию»,
хотя отношения с издательством в этот год у нас были самые превосходные,
так как мы понимали, что Белла Григорьевна, как бы нас не любила, эту
повесть не будет печатать. Но как раз в этот момент Брандис собирал
сборник в Лениздате, и нам пришла мысль, что целиком ее туда давать смысла
нет – вряд ли пройдет, а вот что касается лесной части... Текст выглядел
как совершенно самостоятельная, законченная повестушка о приключениях
землянина, попавшего в лапы иноземных существ. И действительно, прошло без
малейших проблем, там ни одного исправления не было. Ну, после этого
начались, конечно, муки, потому что мы посылали... я уже не помню... в
десятки журналов. Никто ее не брал – повесть доходила аж до Магадана, там
в магаданском книжном издательстве были какие-то знакомые, они взялись
напечатать, но у них ничего не получилось. И вот в 1968 году журнал
«Байкал» взялся напечатать эту штуку. Главный редактор, Байбуров,
сдружился в Москве где-то с Аркадием Натановичем, а вот он сказал: «А что
такое? Напечатаю! Не вижу здесь ничего особенного. То, что вы напечатали в
книжке, уже, конечно, не пойдет, а здесь... Ничего мы тут не видим, все
нормально!» Да-а... И вся беда, по-видимому, заключается в том, что
публикация совпала в тех же самых номерах с публикацией отрывка Белинкова
про Юрия Олешу. Хотя кусок достаточно острый, но и тут ничего страшного бы
не произошло, если бы как раз в это время Белинков не удрал в Соединенные
Штаты. Причем именно удрал. Как мне рассказывали, он поехал лечиться в
Югославию, сел там в самолет, следующий в США, и удрал. Возник страшный
скандал. Первый и второй номер «Байкала» были изъяты и долгое время были
под запретом. В стране опубликовать ее целиком – все наши попытки
кончались ничем, хотя за границей ее очень активно издают. И вовсе не
обязательно буржуазные издательства. В Чехословакии и Польше она вышла
целиком. Вот если продлится у нас это вот все... У нас ее тоже опубликуют.
Кан: Был ли разговор о каком-то продолжении, сшибке двух частей?
СТРУГАЦКИЙ: Нет, не было такого разговора. Ну, может, так где-то, к
слову и не обязательно. Это совершенно законченная вещь.
ВИТМАН: «Второе нашествие марсиан» было написано позже или раньше?
СТРУГАЦКИЙ: Позже. Мы придумали «Второе нашествие марсиан», когда
заканчивали в ноябре «Улитку...». В декабре мы написали «Второе нашестви
е...».
ВИТМАН: Так чем ваш кризис-то закончился?
СТРУГАЦКИЙ: Славочка! Вот тебе и на!
ВИТМАН: Нет, смотрите, как вы подошли к идее, что мещанин – главный
враг, так и промучившись с этой повестью, продолжили долбать мещанина уже
во «Втором нашествии марсиан».
СТРУГАЦКИЙ: Слава, это не совсем так. Вот эти вот муки по поводу
мещанина в виде протоплазмы-мимикроида – они, видимо, даром все-таки не
прошли. В той же «Улитке...» есть немало горьких слов, и как раз о светлом
Будущем: «С вами светлое будущее не построишь, а если вам построить
светлое будущее, вы и будете ходить от алмазной распивочной до хрустальной
закусочной.» Но, в общем-то, мы значительно перегорели с этой темой. И во
«Втором нашествии марсиан» мы совсем не мещанина изображаем. Эта вещь нам,
по-видимому, тоже не удалась. Мы ее любим, но, то что мы хотели выразить в
ней, прошло мимо внимания читателей. Герой наш там написан не с
неприязнью, а с сочувствием. Нам жалко его. Мы его ни в чем не
осуждаем. Ну что можно ожидать от человека, который не имел возможности
никогда в жизни самостоятельно принимать решения. Все решения принимали за
него. Настал час, напялили на него железную каску, погнали в окоп...
Пришло время – сняли железную каску. Пришло время – стал учителем. Теперь
он... Теперь от внешних сил зависит – будет у него пенсия или не будет.
Ну, конечно, он мещанин! И обыватель, в том смысле, что его интересуют
исключительно материальные блага. Но с другой-то стороны, это человек,
которого можно пожалеть. Это несчастный, а не плохой человек.
СТОЛЯРОВ: Вы пишете просто мгновенно...
СТРУГАЦКИЙ: Мы писали когда-то мгновенно. Да, кстати, готовясь к
этому выступлению, я перечитал прежний кусок с Горбовским. Каково же было
мое изумление, когда я перечитал его с удовольствием. Это все, конечно,
огрызки и обглодки, но вот эта линия Горбовского – она, оказывается,
звучит сегодня вполне современно. В ней нет никакого провинциализма. Эта
тема никем не разрабатывалась. И те приключения, в которых участвует
Горбовский, тоже вполне свежо звучат. Я был очень приятно удивлен.
Публиковать, конечно, это не имеет смысла. Удивительно другое – насколько
это было все отвратительно двадцать два года назад.
РЫБАКОВ: Вытекает ли то Будущее, которое вы изобразили в «Улитке...»
из Настоящего, которое творится на биостанции?
СТРУГАЦКИЙ: Для меня никакой связи между этими вещами нет.
Прошло слишком много времени, Слава... Если каким-то образом хаос, царящий
на биостанции, точнее – в Управлении, оказывает влияние на Будущее, то он
оказывает его только на близкое Будущее, вот этот хаос отрыгнется, скажем,
через пятьдесят лет... Через 200 лет забудут и хаос на биостанции, и...
РЫБАКОВ: Hо хаос порождает хаос.
СТРУГАЦКИЙ: Это заблуждение. Хаос иногда порождает и порядок. И еще
какой.
ВИТМАН: Слухач у вас там что-то принимает. Это что – такие же
анахронизмы, как само существование деревни, или это он перехватывает
какие-от кусочки бесед амазонок?
СТРУГАЦКИЙ: Слухач – это атавизм. Это атавизм тех сравнительно
недалеких времен, 50-100 лет назад, когда преобразующая деятельность
амазонок еще нуждалась в каких-то деревенских жителях. Тогда лесовиков
надо было каким-то образом поднимать, и вот было радио. Это – радио. Оно
работает и сейчас. И Слухач регулярно окутывается лиловым туманом. Уже они
перестали понимать, уже эта пропаганда оторвалась от нынешнего уровня
деревни.
ВИТМАН: А оторвалась ли она от нынешнего уровня амазонок? Вот что!
СТРУГАЦКИЙ: Может быть. Оторвалась, да, может быть...
ИЗМАЙЛОВ: Вы сказали, что у вещи жесткая структура. То есть,
энтузиасты вашего творчества берут вариант «Улитки...» в «Эллинском
секрете», берут вариант «Улитки...», который был в «Байкале», и начинают
их сопрягать так, как сами Стругацкие задумали. И
они угадают?
СТРУГАЦКИЙ: Нет, там не так просто. Там не глава – глава. Там есть
сбои.
ИЗМАЙЛОВ: Нет, но они будут гадать, подгонять. И могут угадать?
СТРУГАЦКИЙ: Могут, конечно.
ИЗМАЙЛОВ: Или, скажем, так. Когда, если потепление продолжится, вы их
будете уже выпускать не как две отдельные повести, а сольете их в одну?
СТРУГАЦКИЙ: Конечно.
ВИТМАН: Амазонки, вероятно, наиболее передовые, потому что они
чувствуют себя в Лесу наиболее комфортно. Они его создали. Лес для них.
Ну, а, предположим, что-то фукнуло, и амазонок не стало, остались
лесовики. Лесовики-то тоже приспособлены к этому лесу (Б. С.: Конечно.)
Тогда что – прогресс и Будущее станут лесовики?
СТРУГАЦКИЙ: Если они начнут подчинять себе окружающий мир, то мы
назовем это прогрессом, ведь прогрессом-то мы называем подчинение себе
окружающей среды. Разум, подчиняющий себе окружающую среду –
прогрессирует. Если он гибнет под напором окружающей среды – он
регрессирует.
БРИТИКОВ И ШАЛИМОВ: Да ведь если гибнет мир под воздействием этого
разума?
СТРУГАЦКИЙ: Мир никогда не гибнет. Мир только преобразуется. Мы можем
спокойно загадить благодатный Байкал, уничтожить Аральское море – и это не
будет означать, что мир погиб. Просто мир стал другим. Александр Иванович,
не надо в понятие прогресса вкладывать эмоции. Это же внеэмоциональное
понятие.
БРИТИКОВ: Нет, я верю в человеческую оценочность! Это же ценностная
категория!
СТРУГАЦКИЙ: Если к нему подходят так (Брит.: Только так!), то мы
моментально запутаемся, и окажется, что понятия прогресса не существует.
БРИТИКОВ: Существует. Но его придумал человек, он для себя придумал,
исходя из своих потребностей, и считает прогрессом только совершенно
определенные преобразования природы.
СТРУГАЦКИЙ: Какой человек?
БРИТИКОВ: Исторический человек.
СТРУГАЦКИЙ: Да, каждый под прогрессом понимает свое, если считать
прогресс оценочным понятием. Прогресс с точки зрения Адольфа Шикльгрубера
и с моей точки зрения – это совершенно разные вещи!
БРИТИКОВ: Ну, Адольф Шикльгрубер – это не человечество. А мы сейчас...
ВИТМАН: А оценочные понятия даются не человечеством, а отдельными
личностями. Это субъективное понятие.
БРИТИКОВ: Неправда! Неправда! Для подавляющего большинства добро
однозначно! Жить лучше – добро, жить легче – добро!
СТРУГАЦКИЙ: Неправильно это. Да мы же воспитывались с мнением, что
жить легче – плохо! Плохо жить легче! Жить надо трудно! Жить надо в
аскетических условиях. Так нас учили, Анатолий Федорович. И довольно долго
я считал именно так.
БРИТИКОВ: То есть общечеловеческих понятий не существует?
СТРУГАЦКИЙ: Нет. Ни одного! Общечеловеческих понятий
не существует уже просто потому, что на Земле сейчас уживаются все пять
общественных формаций и то, что является добром с вашей точки зрения, с
точки зрения жителей Соломоновых островов является не то что добром, а
идиотизмом.
БРИТИКОВ: Например, мы за то, чтобы жители Соломоновых островов
вместе с нами не сгорели в ядерной войне. Разве это нас разделяет?
СТРУГАЦКИЙ: Жители Соломоновых островов считают, что своего
противника в споре надо съесть. И чем скорее, тем лучше. Это – добро. Что же
касается ядерного огня, то они этого просто не понимают. А если им
объяснить сжигание в ядерной войне как восшествие к богам, то не
исключено, что очень многие из них отнесутся к этому со знаком «плюс».
Если вопросов больше нет, то я бы хотел задать вам один вопрос. Я
подумал, что шестидесятые годы для нас были годы перестройки, точно так
же, как восьмидесятые – для вас. Меня очень интересует, я с нетерпением
жду – когда и что напишете вы. В 60-х целый ряд запретных тем оказался
открытым. Сейчас происходит нечто подобное.
РЫБАКОВ: Человек нашего поколения писал о запретных вещах еще задолго
до того, как началась перестройка. Просто у вас за плечами не было предшествующей
перестройки, и вы не знали, чем она кончилась. Я в 70-е писал на темы,
которые даже и сейчас не проходят.
СТРУГАЦКИЙ: И теперь вы будете только проталкивать то, что написали
раньше?
РЫБАКОВ: Конечно. Откуда у меня возьмется ощущение свободы, черт
возьми, если не публикуются вещи, написанные раньше?!
БРИТИКОВ: Значит, опубликуют – есть свобода, а не опубликуют – нет?
ВИТМАН: Бытие определяет сознание. Конечно.
РЫБАКОВ: Меня давят, а я буду ощущать свободу? С какой стати? Каким
органом, интересно? Что? Что?
БРИТИКОВ: Гражданским органом!
РЫБАКОВ: Нет такого органа!
ИЗМАЙЛОВ: «Гражданский орган» пять лет назад чувствовал нечто
совершенно иное, чем сейчас. И те люди, которые говорят, что вот
гражданский орган всегда должен ощущаться, они с легкостью необыкновенной
говорят: «Все! Мы поняли! Сейчас другое время!..» Я на них смотрю и думаю – а вот сейчас наступит другое время, и они тут же перекроют кислород.
Опять!
СТРУГАЦКИЙ: Неужели вы не чувствуете?! Не чувствуете, как хватают...
ВИТМАН: Кого хватают, Борис Натанович?
СТРУГАЦКИЙ: Сколько появилось печатных органов, которые берут
фантастику, вы что – не видите?
ВСЕ: Нет! Не берут!
СТОЛЯРОВ: У нашего поколения ни у кого ничего не написано. Кроме
Рыбакова, который сделал за 15 лет две повести. Если бы было – это бы
брали.
Оставьте Ваши вопросы, комментарии и предложения.
|