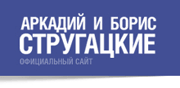|
Сергей Переслегин
«Репетиция оркестра»
Предисловие к десятому тому Собрания
(«Подробности жизни Никиты Воронцова»,
«Дьявол среди людей»,
«Двадцать седьмая теорема этики»)
Многие слышали, что такое свобода, но кто возьмется это определить?
В реальности (все равно, текущей, выделенной, выдуманной) свобода начинается с принятия решений и этой процедурой исчерпывается. В самом широком смысле — свобода есть возможность выбрать собственный Путь.
Эта возможность обязательно ограничена (например, «осознанной необходимостью» оставаться живым). Такого типа ограничения, назовем их для простоты физиологическими, зачеркивают одно измерение пространства личной свободы. Еще одно измерение поглощается тем обстоятельством, что человек — животное биологически эгоистическое, обречен на существование в коллективе, и потому должен соблюдать некие мало меняющихся от социума к социуму «правила общежития».
Назовем общество, в котором личная свобода не подвергается никаким иным ограничениям, идеальным. Не в смысле — «очень хорошим», а в том значении, в котором физика использует понятие «идеальный газ».
«Идеальное общество» можно представить — это означает, что где-то в обобщенной Вселенной оно существует. Может быть, — в Абсолютном Прошлом («до грехопадения») или в Абсолютном Будущем («после Второго Пришествия»).
Интересно, что противоположный вариант: общество, в котором личной свободы нет вообще, даже представить не удается. Абсолютный общественный порядок «кристалла, вышедшего из рук небесного ювелира» недостижим, как недостижим абсолютный нуль.
С этой точки зрения неточна формальная антиутопия Оруэлла: ее краеугольный камень есть именно полное, «идеальное», лишение человека свободы. («Мыслепреступление не приводит к смерти. Мыслепреступление есть смерть.») Но осознание возможности выбирать свой Путь — внутреннее состояние человека, и оно не может быть изменено внешней силой. Ошибка именно здесь: у Оруэлла невозможен не только внешний, но и внутренний протест.
Правда, «быть свободным» и «ощущать себя свободным» — не одно и то же. Назовем общество, все члены которого считают себя несвободными (то есть не видят пространства Путей и не могут совершить выбор), инфернальным. В построении миров, относящихся к этому классу, человечество преуспело.
Не следует, все же, думать, что сотворить такое общество просто. Речь идет о конструировании искусственной сингулярности: чтобы человек не увидел ни одного Пути, информационное пространство вокруг него должно быть искривлено и недоступно для света. (Света разума, или чувства, или хотя бы мещанского «здравого смысла».)
Искривление физического пространства создается материей. Искажение информационного пространства порождается людьми, причем люди эти должны быть специальным образом кем-то организованы.
Для этого необходим определенный технологический уровень. Конечно, и книга, и газета способны управлять поведением человека (потому отдельные короткоживущие и локальные социумы инфернального типа существовали и в доиндустриальную эпоху), но работать только с людьми, воспринимающими печатное слово, хлопотно и дорого.
Иное дело — радио. Информация, доступная всем и везде. И неизбежно простая (потому и доступная, что простая). Организующая. «Коммунизм есть советская власть плюс радиофикация всей страны». Не «белый шум», но «белое излучение».
Изобретение радио открыло дорогу великим идеологическим империям. В соответствии с принципами диалектики попытки построить «идеальное общество» неизменно вели к сотворению ада на земле.
Италия, Германия и Россия. И по-другому — Соединенные Штаты Америки. Ад оказался довольно разнообразным.
В этом томе собраны рукописи, вынесенные из ада.
Данте знал, что сущность инферно исчерпывается первоначальной формулой. «Оставь надежду». В аду можно что-то делать, куда-то двигаться, даже принимать какие-то решения и из чего-то выбирать, но этот выбор не имеет значения.
«...всякий раз впереди война, вселенское злодейство, вселенские глупости, и через все это мне неминуемо предстоит пройти».
Вторая Мировая Война занимает в истории человечества важное место (хотя, конечно, не такое важное, как Первая), но уже к концу шестидесятых она была основательно подзабыта везде, кроме России. Здесь она так и осталась Войной (с большой буквы), Судным днем и состоявшимся Армагеддоном.
«Не тебе решать, что враг, что друг,
Ты ничтожней мгновения, Человек,
Это просто Время замкнуло круг,
Чтоб собрать, притянуть и спаять навек». (Райан)
Время замыкает круг для Никиты Воронцова, заставляя его вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь. И возможность вернуться в юность, сохранив навыки и опыт взрослого человека, возможность, за которую не жалко заложить дьяволу душу, становится для Воронцова нечеловечески страшным наказанием. Социальная неэвклидовость там — в конце тридцатых, начале сороковых — велика настолько, что Кольцо событий не разорвать даже информацией из будущего.
Или это только так кажется?
Апокалиптическое восприятие Войны связано с одним важным социальным экспериментом, неведомо из каких соображений поставленном в Советском Союзе. Ленинский, а затем сталинский социализм привнес в мир абсолютную смерть.
Человек верующий (в Бога, в Дьявола, в Перевоплощение) умирает лишь относительно. Смерть его неокончательна и потому не страшна. Однако последовательный материалист умирает абсолютно. Он знает, что «там» нет «ни тьмы, ни жаровен, ни чертей». «Там» нет ничего. И никакого «там» тоже нет.
Да, конечно, и до социалистического эксперимента были материалисты. Но для тех материализм был философией, к которой они приходили самостоятельно и свободно. Философствование подразумевает определенную гибкость ума и некоторый жизненный опыт — а потому неизбежно включает в себя относительность восприятия — всего сущего, и смерти тоже.
Ленин использовал материализм, как заменитель религии. И миллионы людей верили и верят в Абсолютную смерть. Без загробного суда, воздаяния, без смысла и какого-либо продолжения. Концепция впечатляюще красива и уже потому способна подчинить себе человека, закрыв для него очередное измерение пространства свободы. Тем более, если внушать ее с детства. Никто ведь не бывает философом — в 16-18 лет.
Первое социалистическое поколение было уничтожено в Ту Войну почти полностью.
Если мученика, отдающего жизнь за веру, мы считаем героем и объявляем святым, то как же назвать этих парней и девчонок, которые жертвовали не частью (земным существованием ради небесной благодати), но всем — телом, и душой, и любовью, и самой Вечностью?
Говорилось: если Бога нет, все дозволено. Оказалось, не все. В конце концов, доля дураков и подонков среди обитателей материалистического ада оказалась такой же, что и в любой другой, сколь угодно благополучной (и верующей) стране, а доля добровольных доносчиков — даже меньше.
И поныне мы не в состоянии разобраться во всех результатах этого дьявольского эксперимента. Ясно по крайней мере, что человек все-таки может нормально жить и достойно умирать, веря в абсолютность смерти. И что такое трудно определимое понятие, как «порядочность», закодировано в личности глубже уровня социальных, философских, религиозных и других детерминант.
Оруэлл был прав, когда указывал, что тоталитарным режимам, функционирующим в информационной сингулярности, нужна не война, а «как бы война». «Та Война» была слишком реальной. Столкновение с реальностью разбило шварцшильдовскую метрику социализма. Попытки снова поднять уровень кривизны предпринимались, в общем, без всякого энтузиазма. Начинался следующий Круг. В предыдущем смерть была абсолютной и бессмысленной, но жизнь еще могла заключать в себе какой-то смысл. Предназначение. «Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию, не может сама себя сделать не определенной к нему».
Теперь смысла лишалась и жизнь.
«...Так вот: до пятьдесят восьмого все они были, оказывается, — злобные и опасные дураки («Великая Цель оправдывает любые средства, или Как прекрасно быть жестоким».) От пятьдесят восьмого до шестьдесят восьмого превращались они в дураков подобревших, смягчившихся, совестливых («Позорно пачкать Великую Идею кровью и грязью, или На пути к Великой Цели мы прозрели, мы прозрели».) А после шестьдесят восьмого дурь у них развеялась, наконец, и пропала, но зато и Великая Цель — тоже. Теперь позади у них громоздились штабеля невинно убиенных, вокруг — загаженные и вонючие руины великих идей, а впереди не стало вообще ничего».
К шестидесятым годам искривление информационного пространства в СССР упало до приемлемого уровня, в целом сравнимого с западным. По сути советское государство перестало быть тоталитарным. Вполне обыденный, хотя голодный и потому злой Големчик. Примитивный до ужаса и предсказуемый.
Это место уже не было адом, но населяли его беглецы из ада, и монстры, и «бесы, невозбранно разгуливающие среди людей». Свобода, которую никто не мог и не хотел использовать, поскольку был приучен хотеть не за себя, а только за других. Свобода все-таки понятие чисто внутреннее, личное. Ее очень трудно отнять, и еще труднее подарить другому. В результате бывшие обитатели ада с удовольствием, а чаще устало и по привычке мучили друг друга, зачем-то сваливая вину на государство, которое в подавляющем большинстве случаев было здесь очевидно не при чем. Лучшие из них хотели вырвать сердце спрута и боялись, что для этого нужно чудо.
Им чудилось, что их призвали на новую войну. В Той Войне бессмысленно, бесполезно и безнадежно погибали за советское государство. В Этой дрались против него. Но так же бессмысленно, бесполезно и безнадежно. «Одна дорога и цель одна».
Для Никиты Воронцова замыкается время. Чудо. Save/Load — магия, самая сильная магия в компьютерной игре, увы, не встречающаяся в жизни. И оказавшаяся бесполезной.
У Кима Волошина и Стаса Красногорова — магия более изученная и даже воспетая поэтами. Возможность убить человека на расстоянии. Без усилий, риска, технических средств. Вне всякой зависимости от того, кто этот человек и как он защищен на физическом уровне.
Они выбирают разные дороги. Ким превращается в печального колдуна, убийцу, осознающего себя убийцей, человека с опустошенной душой. Станислав становится почти Президентом и во всяком случае Хозяином, оставаясь все тем же глубоко порядочным и ранимым человеком. Прикрытый не то адским своим талантом, не то Роком, не то Предназначением, не то Виконтом, он пытается создать новое общественное явление: власть порядочных и умных людей. И терпит поражение, как и всякий, кто решает задачу, не разобравшись толком в ее условиях.
Внешняя порядочность («порядочность для других») — это работа имиджмейкера, легко создается и ни малейшей ценности не представляет. Внутренняя порядочность, доминанта личности Станислава, есть потребность всегда и в любых обстоятельствах следовать своим собственным свободно выбранным принципам. Она действительно совершенно нежелательна у человека, наделенного властью. Дело здесь вовсе не том, что она невыгодна с точки зрения конкурентной борьбы. Просто самым внутренне порядочным политиком XX столетия был Адольф Гитлер. Он никогда не нарушал своих принципов, потому и погубил что-то около 50 миллионов людей. А самым непорядочным — Франклин Рузвельт, который прекрасно рассуждал о добре и зле, но в практической деятельности учитывал отнюдь не эти абстрактные категории, а конкретные интересы страны. Так что, может, оно и к лучшему, что Стасу не удалось... Политика — это, как известно, искусство возможного.
Оказалось, что не помогает ни магия, ни чудо, ни ненависть, ни доброта. Это приводит нас к выводу, что у данного спрута просто нет сердца.
«Шестидесятники» в своем воображении наделили свойствами личности то, что личностью не является. Нельзя ненавидеть Систему, потому что это то же самое, что ненавидеть горный обвал, извержение вулкана или закон всемирного тяготения. Нельзя воевать с Системой — это более бессмысленно, нежели воевать с дрейфом континентов. Нельзя продаться Системе: во-первых, она не подозревает о твоем существовании, а во-вторых, не знает слова «покупать». Голем мучил и убивал людей, шил им «политические дела», сажал в лагеря, отправлял за бугор и встречал их оттуда цинковыми гробами не потому, что являлся воплощением ада, и не потому, что был порождением ада и наследником владыки его. Голем был обычным кибернетическим устройством, нуждающимся не в ненависти (или любви), а в наладке и элементарном программировании. Он и сейчас в нем нуждается. По традиции.
(Нельзя не согласиться с Эдиком Амперяном из «Ордена святого понедельника» Н.Ютанова: «Голем есть воплощенная система достижения поставленной цели». И все. Цели и, что гораздо более важно — граничные условия для Големов, программируют люди. В меру своего разумения.)
У «шестидесятников» не было Врага. Их никто не призывал на войну. Если они в чем-то и виноваты перед собой, страной, или своими детьми, то лишь в том, что слишком часто воспринимали жизнь, как борьбу. А.Городницкий говорит осуждающе: «Мое конформистское поколение», между тем упрека заслуживает, пожалуй, скорее нонкомформизм шестидесятых: «Если хвалят тебя, и тебе они рады, значит что-то и где-то ты сделал не так».
Не было ни Этой войны, ни поражения, и история не прекращала течение свое в 1968, или в 1973, или, даже, в 2001 году. Была лишь первая репетиция концерта «для одного Голема и очень многих хороших людей».
«И Томплинсон взглянул вперед, и увидал сквозь бред,
Звезды, замученной в аду, молочно белый свет».
Тексты, включенные в эту книгу, схожи. Даже не определенной общностью героев и судеб (в конце концов Стас Красногоров есть просто интеллигентный вариант Кима Волошина), но, скорее, одинаковой своей безысходностью и бесцельностью. В прямом смысле. Эти «старые карты ада» просто существуют. Как существует и сам ад. Они не «выражают протест», не пытаются «предотвратить», не тщатся «научить». Нельзя научить жить в аду. Информация о такой жизни никогда, никем и ни при каких обстоятельствах не может быть использована. «Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все...».
«Всякое произведение искусства совершенно бесполезно», — добавил бы Оскар Уальд.
[Предыдущий] [Оглавление] [Следующий]
|