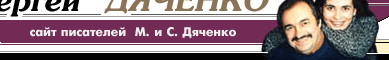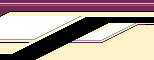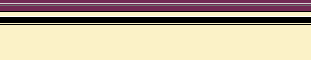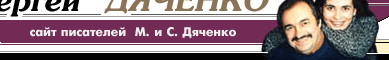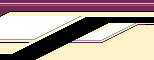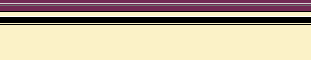|
 |
|
 |
Он мерз.
В затерянной среди снегов избушке не горел ни один огонь; на месте
камина темнела свежая каменная кладка. Он сидел, надвинув на уши
шерстяную шапочку, и ждал восхода луны.
Маленькое окошко светлело толстой коркой изморози - его смерзшимся
дыханием.
Вой ветра в бесполезной каминной трубе. Далекий вой волков.
Он был один посреди снежной пустыни, посреди белого леса, посреди
вымерзшего мира; он был одинок, ему было холодно, он мечтал согреться.
Наконец, белый лунный луч лег на окошко снаружи. Холодные узоры
обрели форму и объем; по мере того как луна поднималась выше, ледяная
картина оживала и менялась.
Паутина едва различимых черточек. Цветные ленты, тугие, как змеи;
белые ветви мертвых деревьев. Белая шерсть несуществующих зверей.
Тяжелые, полные снега колосья.
Он сощурил слезящиеся глаза. Звуки; отдаленные голоса. Тени...
Лица. Смыкающаяся трава. Топор, падающий на пустую плаху; хохочущая
толпа, струйка песка, бегущая по ступеням, золотой блеск...
Он подался вперед.
Золотая пластинка с фигурной прорезью. Желтый металл, покрытый
многими слоями могущества; подобно снежному кому, наворачивающему на
себя один пласт снега за другим, подобно куску хлеба, одетому в масло, и
в мед, и в сыр...
Золотая пластинка, вырастающая до размеров колоссальной двери.
Прорезь, обернувшаяся высоким проемом; в проеме замерла человеческая
фигура.
Сизый младенец в колыбели. Голый младенец с тремя пуповинами вместо
одной.
Три лица. Одно постарше, другое помоложе и третье, смазанное, будто
занесенное песком. Три женщины.
Три нити. Три корня. Три дороги.
Он подался вперед.
Луна погасла, съеденная случайной тучей; танец теней на стекле
оборвался. Натянув поглубже шерстяную шапочку, он откинулся на спинку
кресла, в изнеможении закрыл глаза.
Пусть он не знает, где искать - но сегодня ему впервые открылся
предмет его поисков...
За мутными стеклами жил своей жизнью заснеженный лес, и металось
между нагими стволами голое, замерзшее эхо далекого воя волков. А потом
пришел другой звук, негромкий и мирный, который был в то же время
невозможным и пугающим.
В окошко стукнули. С той стороны.
Он вздрогнул. На белом непрозрачном стекле лежала тень.
Случайный путник? Среди ночи? Среди леса? Здесь?..
- Слышишь меня?
Голос не был ни простуженным, ни усталым, ни напуганным.
- Ты уверен, что оно того стоит? Что ЭТО тебе нужно?
Сквозь слой инея понемногу проступали черты лица. Оттуда, снаружи,
глядел сухощавый старик с нехорошими, пристальными глазами.
- Ты уверен, что следует браться?..
- Надо мной нет твоей власти, Скиталец, - глухо сказал человек в
шерстяной шапочке.
- Ты уверен?..
Страх им владел или другое чувство - но, нашарив в темноте палку,
он с нешироким замахом опустил ее на заиндевевшее стекло.
Со звоном разлетелись осколки. Кинулся в лицо ледяной ветер; за
окном был лес и была ночь, и еще гладкий нетронутый снег, белая
скатерть, давно не помнящая человеческих следов.
Тогда он стянул свою шапочку, обнажив крупный, совершенно голый
череп. Тщательно вытер холодный пот со лба.
Ветер швырнул пригоршню снега в разбитое окно.
Он мерз. Невыносимо. Нечеловечески.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
* * *
Сырые стенки пахли гниющей ветошью, и факел тюремщика мерцал где-то
совсем уж высоко, когда он - тюремщик, а не факел - изрек с претензией
на торжественность:
- Невинные, будьте спокойны, ибо Судья подтвердит вашу невинность!
Виновные, пе... ре.. тре-пещите, ибо Судья пе... про-зрит ваши души до
глубины замыслов и покарает нещадно!
Слова были заученные, а голос такой сиплый и испитой, что даже
здесь, на дне каменного мешка, мне померещился сивушный запах из недр
вещающей глотки.
- Да свершится правосудие! - провозгласил тюремщик со значением.
Постоял немного, любуясь нашими запрокинутыми лицами, а потом залязгал
затворами, заскрипел лебедкой - и захлопнул над Судной камерой железную
крышку. Будто суповую кастрюлю накрыл.
- Светлое Небо, спаси, защити, - застонал в темноте воришка. - Ой,
больше не буду, ни пальчиком, ни грошика не возьму, только помилуй,
ой...
Прочие молчали.
Молчал одноглазый разбойник, пойманный в лесу много месяцев назад и
дожидавшийся Судной ночи чуть не полгода. Молчал старик, такой
благообразный с виду, что хоть сахаром посыпай, а обвиненный, между
прочим, в изнасиловании и убийстве девчонки-работницы. И единственная в
камере женщина молчала тоже - я не знал толком, за что ее спустили в эту
яму.
- Спаси, светлое Небо... Я больше не буду... - хныкал воришка.
Глаза понемногу привыкали к темноте. Старик стучал, как дятел,
пытаясь добыть искру из своего огнива. Разбойник сопел. Густой воздух
стоял в камере, будто смола в ведре - неподвижно, ни дуновения, ни
сквознячка, я подумал, что скоро утоплюсь в этих ароматах - сырость,
гниющая ветошь, разбойник смердит, от дамочки несет немытым телом
пополам со сладкими духами, та еще, наверное, штучка...
Запахи стекались и стелились на каменный пол. Ведя рукой по стене,
я нашел дальний угол и, не решаясь сесть, прислонился к волглой стене.
- Здесь свечи! - радостно сообщил старикашка. - Уголком
прилеплены... Посмотрите, господин, а в том углу свечечек нету?
"Господин" - это, вероятно, ко мне.
- Гордые они, - сухо сообщила женщина. - С нами, чернью, не
разговаривают... А вот как придет Судья, как впарит им по самую макушку!
Воришка застонал громче. Кто-то - похоже, разбойник - взял на себя
труд ткнуть его кулаком в ребра. Стон моментально иссяк.
- Язычок придержала бы, - мягко порекомендовал разбойник женщине. -
Тебе, думаешь, не впарит?
- Я невиновна, - с достоинством заявила узница. - Мне-то что, мне
бояться не-ечего...
- А я на базаре кошелек спер, - трагическим шепотом признался
воришка. - И гуся... на той неделе... спер и продал... и цепочку... у
толстобрюхого... вытащил...
Одна за другой загорелись две свечи. И как-то сразу стало тесно -
будто каменные, тускло поблескивающие стены сделали по шагу вперед. А
железный потолок - суповая крышка - опустился, намереваясь лечь нам на
головы.
- А коли невиновна, - разбойник прищурил свой единственный черный
глаз, - так зачем под Суд угодила?
- Этим заразам лишь бы людей хватать, - женщина, оказавшаяся
средних лет шлюхой, высокомерно повела плечом. - Судья разберется.
- Разберется, - со зловещей ухмылкой подтвердил разбойник. Воришка
заплакал, перечисляя свои прегрешения:
- И в прошлом году... из повозки... два мешка... и на базаре...
опять-таки кошелек... и купцу... и у мамаши...
Он был худой и востроносый, ему было лет шестнадцать, и, раз встав
на путь покаяния, он не мог уже остановиться. Его воспоминания
углублялись все дальше и дальше в детство - скоро он помянет леденец,
украденный у младшей сестры в возрасте пяти лет...
- Господа, - старичок кашлянул. - Я, может быть, не вовремя... но,
собственно... Правосудие не есть дело призраков. Что, собственно,
господин Судья может...
- Помолчал бы, - в голосе разбойника явственно скользнуло отчаяние.
- Попался - так помолчи...
Старикашка упрямо поджал бесцветные губки:
- Я, господа, говорил со стражей... Самый грубый мужлан
разговорится, если подобрать к нему подход... И господа тюремщики
признались, что за все время... лет двадцать... ни разу не было случая,
чтобы... в этой камере что-нибудь такое случилось. Все, кто вошел в нее
с вечера, утром выходят живы-здоровехоньки и идут на четыре стороны...
То есть было, однажды, лет пять назад, когда кого-то удар хватил со
страху - так, господа, удар где угодно может хватить, особенно если
пугливый...
- До седых волос дожил, - укоризненно вздохнула женщина. - Седину
развесил, а не знаешь, что Судья...
И запнулась. Мне сперва показалось, что это разбойник как-то
по-особенному на нее посмотрел - но нет, разбойник глядел в пол, тем не
менее женщина замолчала, будто поперхнувшись, и даже запах сладких
духов потерял уверенность и ослабел. Или мне померещилось?..
Р-рогатая судьба. Неужели этот старикашка и впрямь кого-то
задушил?..
- Молодой господин, - старичок поймал мой взгляд и прижал кулачки к
сердцу, - вот вы, как человек приличный и, без сомнения, образованный...
Могут ли призраки сколько-нибудь вмешиваться в людские дела? То есть,
конечно, они могут пророчить и всякое такое, но правосудие, как мне
кажется, настолько человеческое занятие...
- Ты девку порешил или нет? - угрюмо поинтересовался разбойник. -
Ежели нет, то дело другое... а вот если...
Старичок возмущенно вскинул брови, но этого ему показалось
недостаточно, тогда он всплеснул руками и замотал головой, всем своим
видом показывая, насколько глупы и беспочвенны подобные обвинения.
Женщина мрачно усмехнулась:
- А коли невинный... Чего ерзаешь?
- Я не с вами беседую, - обиделся старичок.
Он думал, что беседует со мной. И напрасно - потому что я с ним
разговаривать не желал.
Я устал. Тюрьма с вонючими тюфяками... Я не решался к ним
притронуться и спал на голой лавке, а соседям по камере не надо было
другого удовольствия, кроме как изловить на себе вошь и переправить мне
под рубашку. Им казалось забавным, что я боюсь вшей...
А ведь прошла всего неделя. Подумать только, меня могли бы схватить
еще два месяца назад, и я просидел бы эти два месяца, и три, и четыре
просидел бы в ожидании Судной ночи, как вот этот разбойник, и завел бы
со вшами дружбу, они бы у меня хороводы водили на ладошке...
Хорошо, что в Судной камере нету тюфяков.
А бежать из башни, как говорят, невозможно. Потому что подъемный
мост чуть не обваливается под тяжестью круглосуточной стражи, а в
обводном рву они вывели какую-то гадкую тварь, ни за какие коврижки не
стал бы я плавать в этом рву...
Рогатая судьба.
- Молодой господин, - старикашка понимающе улыбнулся. - Человека
приличного все это должно страшно удручать... Меня, например, удручает -
сырость, вонь... Но на самом деле нам неслыханно повезло. Уже завтра мы
будем свободны как птицы.
Воришка всхлипнул:
- А Судья?
Старичок тонко улыбнулся. Это была покровительственная улыбка
человека, который знает больше других.
- Поутру нас отпустят, - тонкая стариковская рука по-отечески легла
на воришкин затылок. - Не хнычь, малый. Без того сыро.
Женщина фыркнула. Разбойник молчал.
И во всей башне стояла тишина; вероятно, стражники на стенах ходили
на цыпочках, обмотав сапоги тряпками. И дежурные на мосту
переглядывались, прикрывая ладонями огоньки фонарей: тс-с... Судная
ночь...
Я все-таки не выдержал и опустился на холодный пол. Сел, подобрав
под себя ноги. Привалился спиной к стене.
Скорей бы. Что бы там ни было - хорошо бы процедуре поскорее
закончится... Конечно, если в полночь в стене откроется потайной ход, и
оттуда выберется наряженный призраком начальник стражи... Было бы
забавно, но почему-то не верится. Не так просто.
В камере становилось все холоднее. Притихший воришка жался к
старику, с другой стороны норовила подсесть женщина, она хоть и заявила
вслух о своей невиновности, но тряслась все больше, и не от одного
только озноба. Разбойник пока держался в стороне - но все мрачнел и
мрачнел, и время от времени оглядывал камеру, и тогда я встречался с ним
взглядом.
Разбойник не верил стариковым благодушным заверениям. Разбойник
знал за собой много такого, за что не то что Судья - распоследний
деревенский староста без трепета душевного отправит на виселицу.
- Лучше бы просто вздернули.
От звука его голоса я вздрогнул. Мы, оказывается, думали об одном и
том же.
- Лучше бы просто вздернули, - упрямо повторил разбойник, глядя
мимо меня. - Судили бы... за что знают... а так - сразу за ВСЕ...
Он вздохнул; от этого вздоха заколебались огоньки свечей. Воришка
всхлипнул снова, женщина пожевала губами, в стариковых глазах
промелькнуло беспокойство - и тут же исчезло, сменившись терпеливой
усмешкой:
- Никто про тебя столько не знает, сколько ты знаешь сам... И
ничего? Не судишь? Живешь?
Я стиснул пальцы. В каменном мешке было холодно. Очень холодно.
Очень.
Меня зовут Ретанаар Рекотарс. Неделю назад я произнес это имя в
лица арестовавших меня людей. И потом еще раз произнес - в тесной
судейской конторе. Мне казалось, что этого достаточно - и потому все
остальное время я молчал. Не раскрывал рта - последняя гордость отпрыска
семьи Рекотарсов...
Этим простолюдинам мое имя не сказало ничего. Ничегошеньки; они
равнодушно изучили мои документы, и всякий раз, когда грязные пальцы
касались Грамоты, мне казалось, что ощупывают меня самого.
Что? Великий Маг Дамир, от которого берет начало славный род
Рекотарсов? Что? Барон Химециус? Закорючки на старой бумаге, а ведь мои
тюремщики едва умели читать...
Я молчал в ответ на вздорные обвинения. Я молчал, когда меня
подселили в камеру ко вшивым бродягам. Когда меня вели на Суд, я молчал
тоже...
А теперь, в холоде и ожидании этой ночи - мне показалось, что если
мой язык не развяжется, слова найдут себе другую дорогу. Полезут, в
лучшем случае, из ушей.
- А что же, - спросил я чужим хриплым голосом, - кому Судья
приговор объявляет? Приговоренным? Чтобы они, надо полагать, своим ходом
к палачу бежали и приговор ему на ушко повторяли, так?
Никто не удивился моей внезапной болтливости. Разбойник втянул
голову в плечи - этот куриный жест никак не вязался с его мощным
телосложением, одиноким глазом и черной бородой.
- Судья - он сам по себе и палач, - женщина нервно огляделась, как
до того оглядывался разбойник. - Он как присудит - так и будет, это уж
точно... Донесли на меня, будто я того купца отравила. А не травила я,
его удар хватил, я только денежки потом пособирала...
Она прикусила губу и повторила жест разбойника - втянула голову в
плечи. Я поймал себя на смутном желании сделать то же самое.
- А вас, молодой господин, в чем обвиняют?
Простой и доброжелательный вопрос. Еще не дослушав его до конца, я
обнаружил вдруг, что мой подбородок надменно вздернут.
Старикашка смутился:
- Ни-ни... Я не хотел, что вы...
- Судья сразу увидит, что я невиновная, - быстро сообщила женщина.
- Нет моей вины в его смерти, нет, нет!..
- Не болтай, - мягко посоветовал старикашка. - Разве есть
доказательства, что ты травила? Яд у тебя нашли? Или у того покойника в
животе яд отыскали? Или кто-то видел, как ты травила его, а?
Женщина мотнула головой.
- Доказательства! - старикашка воздел тонкий длинный палец. - Если
доказательств никаких нет...
- Дурак! - сипло прошептал разбойник. - Судья... Он...
Женщина открыла рот, чтобы что-то сказать - но осеклась. И все
замолчали, как по команде; в Судной камере воцарилась тишина, огоньки
свечей некоторое время стояли неподвижно и остро, и я почувствовал, как
по коже продирает мороз.
Кажется, наверху скрежетнула лебедка. Тюремщик?
Железная крышка лежала грузно, дышать становилась все труднее, они
уморят нас как крыс, может быть, в этом и заключается справедливость
Судной ночи?!
- Тихо, - прошептал разбойник, хотя все и так сидели, затаив
дыхание. - Тихо... Тихо...
Рядом с моим лицом ползла по мокрому камню седая мокрица с
прозрачным брюхом.
Язычки свечей дрогнули. Заколебались, но не резко, как от
сквозняка, а плавно, болезненно, будто водоросли на дне. Я успел
заметить, как переменился в лице разбойник, как вытянулась замурзанная
физиономия воришки, как женщина вскинула руки, будто желая укрыться от
камня, летящего в лицо; все они, уже не скрываясь, кинулись к старичку,
ища у него помощи и поддержки, один я остался сидеть, впечатавшись
спиной в камень, очень холодный камень, очень, таким же холодным будет
мое собственное надгробие...
Свечи погасли. Впрочем, в них уже не было надобности.
Он стоял посреди камеры; в первое мгновение мне показалось, что он
бесплотен, что сквозь складки его одеяния просвечивает противоположная
стена, а короткие ноги не касаются пола. Возможно, в какой-то момент так
оно и было - но уже спустя секунду он стоял, расставив ноги в грубых
крестьянских башмаках, и был столь же реален и осязаем, как я, как
разбойник, как воришка, как мокрица на стене.
Я судорожно поискал глазами потайную дверь. В молочно-белом свете,
придавшем камере сходство с каменным подойником, стены оставались столь
же слепыми и неприступными. Ни щелочки. Ни скважины, куда вошедший
призрак мог бы вставить свой призрачный ключ...
Впрочем, разве он призрак?!
Он не казался старым. Маленькую голову покрывал тяжелый седой
парик, тщедушное тело тонуло в пышных складках судейской мантии,
огромные башмаки казались гирями, якорями на тонких, как у паука,
затянутых в черные чулки ножках. Страшным он не казался тоже - ни
страшным, ни величественным, а ведь даже деревенский староста, отправляя
суд, старается выглядеть внушительнее и умнее, чем обычно...
- Здравствуйте, господа.
От звука этого голоса меня прошиб холодный пот.
Ненавижу скрежет железа по стеклу. Ненавижу тихий треск рвущейся
паутины; голос Судьи вбирал в себя все подобные звуки, неявно вбирал, но
так, что мне захотелось зажать уши.
Воришка скорчился на каменном полу, изо всех сил прижимая руки к
животу. Женщина икнула. Старикашка сидел неподвижно, спокойно сидел,
вроде как у себя дома, но одноглазый разбойник жался к его колену, а
потому вся компания выглядела дико. Фальшиво выглядела, как на лубочной
картинке, изображающие житье какого-нибудь доброго отшельника...
- Что ж, - Судья огляделся, будто выбирая место поудобнее, отступил
к стене, привалился к ней плечами и скрестил руки на груди. - Вот, так я
будто бы всех вижу...
У него было маленькое темное лицо с голым подбородком и тонким
крючковатым носом; пряди седого парика небрежно свешивались на лоб, а
из-под них посверкивали глаза, похожие на две черные булавочные головки.
- Господа, каждого из вас привела сюда его собственная крупная
неприятность... Что ж, приступим.
- Выслушайте! - сбивчиво проговорила женщина. - Я расскажу, я...
выслушайте, я не...
- Выслушивать не стану.
Под булавочным взглядом Судьи язык узницы благополучно прилип к
нёбу. В поисках поддержки она вцепилась в одежду старикашки, который и
сам уже не выглядел столь благостным - бледен стал старикашка, а в
молочном свете надвигающегося Суда его бледность казалась совсем уж
бумажной.
Я грел своей спиной стену - и все никак не мог согреть. Как будто
глыба льда оказалась у меня за плечами, скорее я остыну, чем она примет
от меня хоть толику тепла; я ждал своей участи в гордом одиночестве, как
и подобает отпрыску рода Рекотарсов, но зато как это скверно -
одиночество в такой момент...
Нехорошее слово - "приступим". Приступим, говорит цирюльник, берясь
за клещи для выдирания зубов. Приступим, говорит лекарь, навострив
ланцет. Приступим, говорит учитель, вылавливая в кадушке розгу...
Приступим, сказал Судья.
Меня зовут Ретанаар Рекотарс. В моем роду вельможи и маги. Грамота,
которую я храню в своем дорожном сундучке, выдана моему прадеду по
мужской линии моим прапрадедом по женской линии, выдана в благодарность
за избавление окрестностей от свирепого дракона, которым, то есть
избавлением, ясновельможный барон Химециус обязан Магу из магов Дамиру,
у которого сам Ларт Легиар был одно время в прислужниках...
В детстве я порезал руку, желая увидеть в своих венах голубую
кровь.
Теперь я сижу на корточках в углу сырой вонючей камеры, и некто
Судья, явившийся из стены, собирается взыскать с меня за прегрешения. И
в особенности, вероятно, за последнее - не зря так разъярились городские
стражники, догнали меня уже на большой дороге, сняли с дилижанса и
притащили в эту проклятую тюрьму...
- Выслушивать я не стану, - медленно повторил Судья. - Говорить нам
не о чем, потому как вы и так уже все сказали, и сделали, надо
признаться, немало... Что до тебя, женщина, то обвинение в убийстве не
имеет под собой оснований. Ты не убивала того человека, что месяц назад
умер в твоей постели.
Все, находившиеся в Судной камере - исключая разве что самого Судью
- со свистом втянули в себя воздух. Потом старик закашлялся, воришка
взвизгнул, разбойник зашипел сквозь зубы, а женщина так и осталась с
переполненными легкими - круглая, как пузырь, красная, с сумасшедшими от
счастья глазами. Молчала, краснея сильней и сильней, и будто бы не
решалась выдохнуть.
- В остальном, - скребущий голос Судьи сделался насмешливым, -
твоим провинностям нет числа, ты ограбила мертвого, ты зарабатывала
телом... Знай же, что с сегодняшней ночи объятия любого мужчины будут
причинять тебе муку. Хочешь заниматься прежним ремеслом - продолжай,
сама твоя работа станет тебе в наказание... Я сказал, а ты слышала, Тиса
по кличке Матрасница. Это все.
Женщина, казалось, забыла, как выдыхают воздух. Лицо ее из красного
делалось потихоньку пурпурным, а затем и лиловым; никто не догадался
шлепнуть ее по спине, вытолкнуть наружу застрявший в глотке Приговор.
Никто даже не взглянул на нее. Все думали только о себе, и я тоже.
Судья переменил позу - глухо стукнули о камень тяжелые башмаки. В
складках мантии на секунду обнаружилась золотая массивная цепь - и тут
же пропала, съеденная бархатом.
- Кто желает слушать следующим? - Судья усмехнулся уже в открытую,
маленькая голова качнулась, парик окончательно съехал на глаза, Судья
поправил его небрежным жестом, как поправляют шапку. - Может быть ты,
Кливи Мельничонок?
Воришка дернулся. Вскочил, тут же грохнулся на колени, прополз
по каменному полу к башмакам Судьи и завел жалобную песню:
- Я-а... раска-а... ива-а... ворова-а...
Талантливый парнишка. Мог бы зарабатывать на жизнь голосовыми
связками.
- Воровал, - равнодушно подтвердил Судья. - Доворуешься
когда-нибудь до петли... Впрочем, нет. Теперь чужие монеты станут жечь
тебя, как огонь. Ежели тебя и повесят, то за что-нибудь другое... Я
сказал, а ты слышал, Кливи. Это все.
В Судной камере снова сделалось тихо. Я поискал взглядом мокрицу -
мокрица исчезла.
- Теперь ты, - Судья снова переступил с ноги на ногу, взгляд его
теперь остановился на разбойнике. И ведь до какого жалкого состояния
можно довести плечистого свирепого мужчину - где это видано, чтобы
лесной душегуб корчился от страха, как приютская девочка...
Судья замолчал. И достаточно долго молчал, разглядывая
перекошенную разбойничью физиономию, потом протянул задумчиво:
- Странный ты человек, Ахар по кличке Лягушатник, на каждую твою
вину по три смягчающих обстоятельства... Поскольку людей ты уморил
изрядно, быть тебе казненным...
По камере пронесся сдавленный вздох.
- Но ты искал и маялся, - Судья раздумчиво склонил белый парик к
черному плечу. - Ты щадил... и потому дается тебе месяц перед казнью.
Я сказал, а ты слышал, Лягушатник. Это все.
Разбойник непроизвольно поднял руку к повязке, к тому месту, где
был когда-то глаз. И так и остался сидеть - в позе человека,
ослепленного ярким светом.
Судья снова поправил парик - хотя надобности в том не было никакой.
Провел по каменному полу носком тяжелого башмака, шумно вздохнул, и
булавки его глаз уставились на меня.
Почему я не проглотил собственный язык - до сих пор не понимаю.
Темное личико Судьи поморщилось, как от кислого, он полуоткрыл рот,
собираясь что-то сказать - но в этот момент благообразный старикашка
дернулся, словно в припадке падучей, и взгляд Судьи сполз с меня, будто
тяжелое насекомое. Переполз через всю камеру - туда, где еще недавно
жались друг к другу мои вынужденные соседи. Теперь каждый из них был сам
по себе - женщина все еще пыталась вытолкнуть из легких ненужный воздух,
воришка хлопал мокрыми глазами, не зная, радоваться ему или плакать,
разбойник отшатнулся в сторону и сидел, закрывая пустую глазницу от
молочно-белого света этой длинной, этой Судной ночи. Старичок остался в
одиночестве - и лицо его было даже белее, чем пышный парик Судьи.
"Могут ли призраки сколько-нибудь вмешиваться в людские дела?" По
видимому, любезному старикашке как раз предстояло это узнать. Потому что
Судья забыл обо мне - темное лицо его потемнело еще больше. Тонкие губы
исчезли, оставив на месте рта узкую безжалостную щель.
- Ты, Кох, себе-то не ври. Не ври, что выкрутишься. Не выкрутишься,
Кох, не надейся.
- Поклеп, - неслышным голосом сказал старикашка. - Поклеп, донос,
доказательств нет никаких... Гулящая она была, и хворая к тому же,
поклеп...
Судья поднял острый подбородок. И как-то сразу выяснилось, что
маленькая фигурка под белым париком отбрасывает тень сразу на четыре
стороны, и все мы сидим в этой тени, и мне показалось, что седые волосы
парика сейчас забьют мой разинувшийся рот, не дадут дышать...
Я закашлялся. Наваждение отступило, Судья по-прежнему стоял у
стены, маленький и черный, на паучьих ножках, и зловещее молчание Судной
камеры нарушалось только моим неприличным кашлем. Уже сколько раз мне
случалось поперхнуться в самую неподходящую минуту, когда подобает
хранить молчание...
- Ты, Кох, поплатишься скоро и страшно. Сердце твое выгнило,
плесень осталась да картонная видимость; смерть тебе лютая в двадцать
четыре часа. Я сказал, а ты слышал, ювелир. Это все.
- Поклеп, - упрямо повторил старикашка. Женщина тихонько заскулила,
закрывая рот ладонями, воришка на четвереньках отбежал в дальний от
старика угол - да там и остался.
Взгляд Судьи снова переполз через всю камеру - теперь в обратном
направлении. Я знал, куда он ползет; когда две черных булавки
остановились на мне, я поперхнулся снова.
Судья вежливо дождался, пока я закончу кашлять. Стоял, покачивая
маленькой головой в необъятном парике, мне подумалось, что он похож на
гриб - из тех, что растут в темноте, на сырых стенках подвалов.
- Ретанаар Рекотарс...
Я вздрогнул. В устах зловещего сморчка мое родовое имя звучало
странно. Казалось, что Судья замысловато выругался.
- Дорожка твоя в тину, Ретано. Ты уже в грязи по пояс - а там и в
крови измараешься... Сборщик податей повесился на воротах, кто-то скажет
- поделом, но смерть его на тебе, Ретано. Ты тот же разбойник - где
лесной душегуб просто перерезает горло, ты плетешь удавку жестоких
выдумок. Год тебе гулять. По истечении срока казнен будешь... Я сказал,
ты слышал, Ретанаар Рекотарс. Это все.
Всю его речь - неторопливую, нарочито равнодушную - я запомнил
слово в слово, зато смысл ее в первое мгновение от меня ускользнул. Я
сидел у склизкой стены, хлопал глазами, как перед этим воришка, и
удивленно переспрашивал сам себя: это мне? Это обо мне? Это со мной?!
Судья помолчал, обвел медленным взглядом недавних подсудимых,
ставших теперь осужденными; мне показалось, что черные, спрятанные за
белыми буклями глаза задержались на мне дольше, нежели на прочих.
Или каждому из нас так показалось?
А потом он повернулся к нам спиной. Черная мантия была порядком
потертой и лоснилась на плечах.
И шаг - сквозь стену; мне до последнего мгновения мерещилось, что
он разобьет себе лоб.
Потому как он не был призраком. Или я ничего в этом деле не смыслю.
Судья ушел, и белый молочный свет иссяк. Наступила темнота.
*
Утром - хоть в подземелье, кажется, нет ни утра, ни вечера - за
нами пришли. Тюремщик выглядел довольным и гордым - так, как будто бы
это он умеет ходить сквозь стены и распоряжаться чужими судьбами.
Первый из стражников, седой и кряжистый, хмурился и смотрел в пол, зато
сослуживец его, веселый молокосос, сдуру взялся о чем-то нас
расспрашивать. Старший товарищ ласково съездил ему кулаком между
лопаток, и юноша, поперхнувшись, осознал свою неправоту.
Под небом царило утро. Разбойник, поймав лицом солнечный луч, часто
задышал ртом и осел на руки стражникам. Воришка глупо захихикал; у меня
у самого ослабели колени, и не было охоты оглядываться на старика и
женщину, шагавших позади. С натужным скрежетом опустился мост, нас
повели над провалом рва, над темной далекой водой с плавучими
притопленными бревнами - впрочем, приглядевшись, я понял, что это вовсе
не бревна, что скользкое дерево глядит голодными глазами, а впрочем,
может быть, мне просто померещилось. Я слишком быстро отвел взгляд.
Нас вывели за ворота и оставили посреди дороги - в пыли, в стрекоте
кузнечиков, под безоблачным небом; мы проводили стражников долгим
взглядом, а потом, не сговариваясь, уселись в траву. Вернее, это я
уселся, прочие поступили сообразно темпераменту: разбойник рухнул,
воришка прыгнул, старичок осторожно присел, а женщина опустилась на
корточки.
Никто не спешил уходить - будто бы сырые стенки Судной камеры до
сих пор отрезали нас от поля и дороги, от неба и кузнечиков, от
возможности идти куда вздумается; долгое время никто не раскрывал рта.
То ли слов не было, то ли и так все было ясно.
- Руки коротки, - наконец выговорил старикашка. Глухо и через силу.
- Дурак, - отозвался разбойник безнадежно. - Коротки ли - а
дотянутся...
- Ничё нам теперь не будет, - сказал воришка, ухмыляясь от уха до
уха. - Выпустили уже... выпустили.
Женщина молчала - несчастная, всклокоченная, с ввалившимися
глазами; впрочем, при свете дня оказалось вдруг, что она куда моложе,
чем показалось мне вначале.
*
Что за страх держал нас вместе? И страх ли? Почему, например, я,
получивший обратно свои документы и даже остаток своих собственных денег
- а большую часть с меня взыскали "за содержание", за тюфяки и вшей,
надо понимать! - почему, получив свободу, я не отправился тут же своей
дорогой, а уселся в трактире с этим сбродом, с моими товарищами по
несчастью?..
Судья сказал, а мы слышали. Судная ночь сбила нас в стаю -
ненадолго, надо полагать. Но первым повернуться и уйти никто не решался.
Веселее всех был воришка - тот привык жить сегодняшним днем, не
днем даже, а минутой: коли страшно, так трястись, а ушел страх - хватать
толстуху-жизнь за все, что подвернется под руку. Разбойник веселился
тоже - истерично и шумно; безнадежность, владевшая им с утра, не
выдержала схватки с хмельным угаром, и после двух опустошенных бочонков
одноглазый задумал поймать Судью и утопить в нужнике. Старичок не пил -
сидел на краю скамейки, деликатно положив на стол острый локоть, и
повторял, как шарманка, одно и то же:
- У призраков над человеческой жизнью власти нет! Пугало смирно - а
ворон на огороде пугает. У призраков над человеческой жизнью власти нет!
Пугало смирно, а ворон... У призраков над человеческой жизнью... Нет,
нет, нет!..
На плечо мне легла рука. Нос мой дернулся, поймав сладкую струю
знакомых духов.
- Пойдем, господин, - сказала женщина. - Дело есть.
Она, наверное, целый час отмывалась у колодца, а потом достала из
котомки лучшее платье. Влажные волосы уложены были в подобие прически,
бледное деловитое лицо казалось даже милым - во всяком случае, шлюху в
ней выдавали теперь только духи. Слишком уж приторные. Слишком.
Поколебавшись, я встал из-за стола; если я пью с разбойником и
воришкой под лепет лиходея-старичка - почему бы мне не внять вежливой
просьбе чисто вымытой шлюхи?
Мы отошли в дальний угол; женщина помялась, решая, вероятно, как ко
мне следует обращаться. Благородных господ подобает звать на "вы" - а
как величать аристократа, который время от времени сидит в тюрьме
наравне со вшами и всяким сбродом?
- Вы, это... Я купца не травила, это он точно сказал, но вот
прочее... Господин, я ведь не спрашиваю, что вы такое натворили, коли он
смерть вам назначил через год...
Я смотрел в ее круглые, голубые, невинные глаза. Не орать же на
весь трактир: заткнись, дура стоеросовая, что ты, так тебя разэдак,
болтаешь?!
Она поежилась под моим взглядом. Нервно заморгала:
- То есть, это... Ювелир этот, он точно девку порешил, я знаю...
Только он твердит, что призракам власти нет, а я боюсь, что есть-таки,
так это... можно бы проверить...
Она замолчала, выжидая.
- Что проверить? - тупо переспросил я.
- Есть ли власть, - пояснила она терпеливо. - Ежели приговор...
если не пугало, как от талдычит, ежели стражники не дураки... Так
проверить же можно, - она снова выжидательно замолчала, заглядывая мне в
глаза.
Разбойник, закатив единственный глаз, орал песню; все живое в
трактире забилось по углам - округа давно знала, что здесь заливают
пережитый страх "душегубы, которых из Судной выпустили". Любопытных
собралось немало, но дураков среди них не было - в соседи к пьяному
разбойнику никто не лез.
Я тряхнул головой. Обычная моя сообразительность куда-то подевалась
- прошла долгая минута, прежде чем до меня дошло наконец, каким образом
женщина собирается проверить истинность наших приговоров.
Как там Судья ее огорошил, беднягу? "Объятия любого мужчины будут
причинять тебе муку"?
Женщина улыбнулась - смущенно, будто извиняясь:
- Вы, господин, не подумайте... ничего такого... проверить только
надобно. Знать надо, а то чего он болтает, что у призраков власти нет,
а мне вот покойная бабка рассказывала...
Она замолчала. Открытое платье почти не прятало от мира высокий
бюст, талия, не слишком тонкая, была безжалостно затянута корсетом, а
бедра под пышной юбкой казались крутыми, как тщательно сваренное яйцо.
Мой оценивающий взгляд был встречен как согласие; женщина
заулыбалась смелее и даже ухитрилась покрыться нежным стыдливым
румянцем:
- Вы, господин... красивый. В жизни таких красавчиков не встречала.
Я уж с хозяином сговорилась про комнату...
Ну как тут не быть польщенным.
Я тоскливо оглянулся на пирующих. Повезло мне - наследника
Рекотарсов предпочли пьяному разбойнику, юному воришке и седому
старикашке, который, если верить Судье, девчонок насилует до смерти...
А, собственно говоря?.. Шлюха как шлюха. Даже получше прочих -
аппетитная... И несчастная к тому же. Окажется, что приговор Судьи в
силе - куда ей теперь?..
Меня передернуло. Это вино заставило на время забыть о седом парике
на паучьих ножках, а теперь я вдруг вспомнил все, и мокрицу на стене, и
обращенную ко мне нравоучительную тираду, и случившийся потом приговор,
- я вспомнил Судную камеру, и некое подобие интереса, проснувшегося во
мне во время лицезрения шлюхиных прелестей, увяло, как роза в песках.
- Ты уж с хозяином и обо всем прочем договорись, - посоветовал я,
отворачиваясь. - А то ведь за комнату платить надо...
И, не оглядываясь, вернулся за свое место за столом - подле
разбойника, спящего рылом в грибном соусе, пьяненького воришки и
старикашки-ювелира, который все твердил, стуча пальцем по столешнице и
постепенно наливаясь желчью:
- У призраков над человеческой жизнью власти нет! Нечего
пугать-то... Пугало смирно... маломощное, пугало-то. Только ворон на
огороде пугает...
*
Женщина обиделась, но виду не подала. Сквозь мутную пелену,
затянувшую мир после некоторого количества выпитого вина, я видел, как
она подлащивается поочередно к хозяину трактира, к работнику и даже к
поваренку - но все, преодолевая соблазн, дают ей от ворот поворот.
А ведь здесь таких как мы - осужденных - видели-перевидели. Всякий
раз после Судной ночи в этот трактир заваливается ополоумевшая от
внезапной свободы толпа... Возможно, эти опасливо приглядывающие за нами
люди знают о приговорах Судьи куда больше нашего, и потому ароматная
одинокая женщина не находит среди них сочувствия. Даже у
мальчишки-поваренка, которому эдакое счастье перепадает нечасто. А
разбойник надрался и спит, а воришка надрался тоже и пускает слюни, а я
такой гордый, что самому противно, что ж ей, на старикашку кидаться?!
Сознание покинуло меня, кажется, всего на минуту - зато когда я
очнулся, была уже глухая ночь. Чисто вымытый пол пахнул мокрым деревом,
разбойник постанывал на лавке, трактир был пуст, и только на лестнице,
уводящей вверх, в жилые комнаты, скрипом отдавались крадущиеся шаги,
ползла сквозь темноту горящая свечка да поднимались в такт шагам две
обнявшиеся тени.
Я с трудом выпрямился. Завертелась, набирая скорость, пьяная
голова. Карусель, да и только. Сучья карусель.
Повезло старикашке. Будто заранее знал - ни капли не выпил. Одной
болтовней был пьян - и вот теперь тянется по лестнице, вдыхая
приторно-сладкий запах ее духов. Вот скрипнула, отворяясь, дверь...
Обеими руками я свирепо растер лицо. Карусель приостановилась; ночь
- время безнадежное. Сегодня я вдыхал запах пыли и травы, смотрел на
солнце и верил, что теперь жизнь моя пойдет по-новому, забудутся волглые
стенки, мокрицы и вши, весь последний месяц забудется напрочь...
"Дорожка твоя в тину, Ретано. Ты уже в грязи по пояс - а там и в
крови измараешься..."
Светлое Небо, но зачем-то ведь на свете наплодилось столько
дураков?! Если на ярмарку приезжает сборщик налогов - ну хоть кто-нибудь
посмотрел бы внимательнее в его бумаги! Нет, поворчали и понесли - по
доброй воле, чтобы неприятностей с властями было поменее. Сборщик
натурой не брал, а только деньгами - кошелек к земле не тянет, это не
корзины на спине таскать... Ну разве я так уж их ограбил?! Родовое
поместье в упадке, денег из него не выжмешь, все равно что из камня
молоко доить, а отпрыску Рекотарсов как-то жить надо, нет?!
Я ушел за день до прибытия настоящего сборщика. Тому сперва морду
набили - за самозванца приняли, налоги-то сданы уже, честь честью...
Потом от местного князя усмирительный отряд прискакал - плохо обернулась
ярмарка. Кого-то, говорят, до смерти затоптали...
Потом мне рассказывали, что хозяин, разъярившись, взыскал
недостающую в казне сумму с этого самого сборщика. А тот повесился на
воротах... Все мне рассказали длинные языки. И на меня же потом навели -
иначе как объяснить, что меня взяли на большой дороге, в двух днях пути
от места происшествия?!
"Ты тот же разбойник - где лесной душегуб просто перерезает горло,
ты плетешь удавку жестоких выдумок..."
Дурака никто никогда не винит. Дурака жалеют; если ягненок шляется
по лесу, то виноват, конечно, волк. Красиво говорит Судья - "удавка
жестоких выдумок"... Прямо по-книжному. Как с листа читает.
"Год тебе гулять. По истечении срока казнен будешь..."
Я вздрогнул. Мне померещились шаги - наверху, над головой, кто-то
ступал босыми ногами, не иначе как старикашка собирается с силами для
занимательного эксперимента. В силе или нет приговор Судьи?
Собственно, эти, опознавшие во мне лжесборщика, могли разорвать
меня голыми руками. И остановило их одно: близость Судной ночи...
Может быть, они тоже дураки? Законченные? И считают, что одна
неприятная ночь, проведенная в обществе тонконогого Судьи, сполна
накажет меня за разоренную ярмарку и труп сборщика на собственных
воротах?..
Где-то там, наверху, сейчас заскрипит кровать. А потом шлюха,
помятая, но счастливая, нетвердой походкой спустится вниз и объявит со
смехом: прав был старикашка, во всем прав! Нет у призраков власти над
живыми людьми, один страх бесплотный...
Гм. А если Судья знает про сборщика - значит и все, что он говорил
про ювелира, тоже правда? И благообразный старикашка изнасиловал, а
потом и убил девчонку, бывшую у него в услужении?!
Мне сделалось дурно. Поплыл перед глазами вымытый пол, новой
каруселью завертелась голова, захотелось лечь лицом в стол и подольше не
просыпаться...
А потом сверху послышался тяжелый удар. И целую секунду было тихо.
И еще секунду.
...От крика дрогнули огоньки свечей. Кричала женщина - да не
обычным женским визгом, а с подвыванием, взахлеб, будто от нестерпимого
ужаса, будто коврик у ее кровати поднялся на членистые лапы, алчно
засучил бахромой и кинулся на горло - душить...
От крика заворочался на лавке разбойник. От крика проснулся воришка
- и повел бессмысленными глазами. Застучали по всему дому двери, из
комнаты для слуг высунулся перепуганный сонный работник.
Она все кричала. Не уставая.
Трухлявые ступеньки чуть не лопались под ногами. Я рывком подскочил
к двери, за которой захлебывалась воплем женщина, и вломился, судорожно
отыскивая на поясе несуществующий кинжал.
В комнате горела единственная свечка. Шлюха стояла на кровати - в
чем мать родила. Стояла, чуть не упираясь затылком в низкий потолок, и
вопила, прижимая ладони к нагой груди. С первого взгляда мне показалось,
что в комнате больше никого нет - но женщина смотрела вниз, в угол, я
ожидал увидеть там что угодно, хоть и вставший на членистые лапы
прикроватный коврик...
Стоило только повыше поднять свечку.
Он лежал на спине, белки глаз отсвечивали красным. Из-под затылка
черной тарелкой расползалось круглое пятно крови.
- А-а-а, - выла женщина, забыв о своей наготе и не смущаясь толпы,
завалившей в комнату вслед за мной. - А-а-а... Голова-а...
Я склонился над умирающим - а старикашка умирал, окровавленный рот
подергивался в предсмертной судороге, будто желая сказать мне что-то
важное, исключительно важное, стоящее предсмертного усилия. Я прекрасно
понимал, что ничего он не скажет - еще секунда... другая...
Старичок мучительно испустил дух. Женщине за моей спиной грубо
велели заткнуться.
Я поднес свечку к остановившемуся лицу. Так близко, что еще
мгновение - затрещала бы седая всклокоченная борода.
Старик приколочен был к полу. Падая навзничь, он напоролся затылком
на огромный, кривой, торчащий из пола гвоздь.
*
Утром я был далеко.
Что мне до путаных объяснений хозяина - умывальник, мол, стоял,
приколоченный к полу, а потом унесли, а гвоздя не заметили?
Что мне до всхлипываний шлюхи - она, мол, не успела ничего
проверить, старик как нацелился на кровать - так и поскользнулся на
собственной пряжке?
И хозяину было все ясно, не зря он зябко ежился и втягивал голову в
плечи.
И шлюхе все было ясно тоже - не зря она так рыдала, позволяя слезам
вымывать дорожки на лице и свободно скапывать с подбородка.
"Ты, Кох, поплатишься скоро и страшно. Сердце твое выгнило, плесень
осталась да картонная видимость; смерть тебе лютая в двадцать четыре
часа..."
Прощай, убийца Кох.
Двадцать четыре часа миновало.
Один день из трехсот шестидесяти пяти.
И встающее над лесом солнце показалось мне похожим на огромные,
поднимающиеся над миром песочные часы.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Молодая женщина сидела на широком подоконнике, обняв руками колени.
Девчоночья поза была ей удобна и привычна; ничуть не заботясь о том, как
ее легкомыслие может быть воспринято со стороны, женщина смотрела за
окно - туда, где грохотали по булыжной мостовой пузатые кареты,
расхаживали уличные торговцы, прогуливались богатые горожане и стайками
носились чумазые дети.
По ту сторону стекла опустилась на подоконник оранжевая с черным
бабочка. Женщина невольно задержала дыхание; казалось, с крыльев бабочки
пристально глядят два черных недобрых глаза.
- Это "глаз мага", - сказала женщина вслух, хоть в комнате не было
никого, кто услышал бы и ответил.
Некоторое время бабочка сидела, подрагивая крыльями, потом
сорвалась и полетела - трепещущий оранжевый огонек.
Женщина вздрогнула, будто о чем-то вспомнив. Соскользнула с
подоконника; дверь не стала дожидаться, пока она коснется ручки. Дверь
распахнулась сама собой, в комнату без приглашения шагнула девочка -
или, скорее, девушка, потому что вошедшей было пятнадцать лет, тело ее
понемногу обретало подобающие формы, но лицо оставалось вызывающе
подростковым, угреватым, некрасивым и дерзким.
- Ты была в моей комнате? - спросила девушка вместо приветствия.
- Я принесла тебе книжки, - отозвалась женщина с подчеркнутым
спокойствием.
- Я просила НЕ ПЕРЕСТУПАТЬ порога моей комнаты! - сказала девушка,
и глаза ее сделались двумя голубыми щелями. - Никому, кроме прислуги!
- Считай, что я прислуга, - сухо усмехнулась женщина. - И я не
трогала твоих вещей.
Девушка сжала губы. Женщина с тоской разглядывала ее лицо -
знакомые черты дорогого ей человека претерпели здесь странное изменение,
девочка казалась карикатурой на собственного отца.
Женщина подавила вздох:
- Где ты была вчера, Алана? В "Северной корове?"
- Почему бы мне там не быть, - фыркнула девушка с вызовом.
- Разве отец на просил тебя...
Девушка круто повернулась и пошла прочь, на лестницу. И, уже
спустившись на несколько ступенек, обернулась:
- А ты, Танталь? "Притон", "кабак"... Ты что, никогда не ходила по
кабакам?!
- Сегодня утром отец запретил привратнику выпускать тебя из дому, -
устало бросила женщина в удаляющуюся гордую спину.
Девушка споткнулась. Обернулась, и сузившиеся глаза казались уже не
голубыми, а черными:
- Чего?! Он... ну так... Так будет хуже! Будет хуже, так и передай!
И побежала вниз, подметая ступени подолом темного мятого платьица.
*
На закате распахнулась входная дверь, слуга поспешил в прихожую, на
ходу кланяясь, не умея сдержать глупую улыбку от уха до уха:
- Добрый вечер, хозяин! Вернулись?
Женщина подавила желание бежать вслед за слугой. Поправила перед
зеркалом прическу, пощипала себя за щеки - чтобы не вызывать
беспокойства нездоровой бледностью - и только тогда вышла, остановилась
на верхушке длинной лестницы, дожидаясь, пока человек со светлыми,
наполовину седыми волосами поднимется по желтоватым, как клавиши,
ступеням.
Это было своеобразным ритуалом. Она всегда дожидалась его здесь.
- Добрый вечер, Танталь.
- Добрый вечер, Эгерт...
Хорошо, что в вечернем полумраке он не может разглядеть ее лица. Ее
безнадежно бледного лица с ввалившимися глазами, и невинная хитрость с
пощипыванием щек ничего не может скрыть, тем более от него...
- Все в порядке, Эгерт?
Ее голос звучал тепло и ровно. Как обычно.
Он кивнул. Она взяла его под руку, пытаясь придумать какую-нибудь
ничего не значащую фразу, но ничего подходящего не придумывалось; он
молчал тоже, и так, в молчании, оба отправились в дальнюю комнату -
самую большую и светлую спальню в доме.
На столе горел светильник. В глубоком кресле сидела женщина - ничей
язык не повернулся бы назвать ее старухой. Черные тени лежали на белом,
потрясающей красоты лице. Темные глаза смотрели в пространство.
- Привет, Тор, - ласково сказал Эгерт.
Сидящая улыбнулась и кивнула.
Вот уже три года она не делала ничего другого - сидела, глядя в
пустоту перед собой, а услышав знакомый голос, улыбалась и кивала.
Душа ее летала где-то так далеко, что даже самые близкие люди не могли
до нее дозваться.
- Все в порядке, Тория, - спокойно подтвердила Танталь. И только
внутри ее сжался невидимый комочек, та часть ее, что не любила лгать.
Женщина в кресле улыбнулась и кивнула снова.
- Мы пойдем, - глухо сказал Эгерт.
Женщина кивнула в третий раз.
Танталь и Эгерт вышли, осторожно прикрыв за собой дверь. В коридоре
вежливо дожидалась сиделка - добрая женщина, приходившая вечером и
уходившая утром, она сменила компаньонку, которая с утра и до вечера
сторожит спокойствие госпожи Тории, балагурит в пустоту и читает вслух
книги, до которых госпоже Тории нет никакого дела...
- Что случилось? - отрывисто спросил Эгерт, когда служанка убрала
со стола недоеденный ужин.
Все видит, подумала Танталь устало.
- Алана?
- Заперлась в комнате. Я сказала ей, что ты...
Вертикальные морщины на белом лбу Эгерта сделались глубже:
- Да, я думал. Ты знаешь, как я надеялся, что она... Перерастет.
Тем более после поездки в Каваррен...
- Каваррен пошел ей на пользу, - пробормотала Танталь, водя пальцем
по узору на скатерти.
- Надо было ее пороть, - Эгерт нервно передернул плечами. - Когда
все это началось... Надо было наступить себе на горло и...
- Ерунда, - меланхолично отозвалась Танталь. - Ты просто устал...
ты устал сегодня.
- Отвезти ее в Каваррен, - Эгерт сплел пальцы, - изменить...
обстановку... надолго. Я бы перебрался в Каваррен, но Корпус...
- Что тебе дороже - чужие мальчишки или собственная дочь?
Танталь сама удивилась словам, сорвавшимся с ее губ как бы между
прочим. Как бы невпопад.
- Извини, - добавила она тихо. - Собственно, и переезд ничего не
изменит. Мне так кажется.
Эгерт молчал.
- Извини, - повторила Танталь уже с беспокойством. - Я... я уже
устала твердить тебе, что в этом нет твоей вины. Алана...
- Те дни ее сломили, - сказал Эгерт, глядя в стол. - Танталь, есть
ли в этом доме человек, перед которым я не виноват?!
Наверху грохнула дверь. Послышался звон разбитой посуды, минуту
спустя в столовую вбежала перепуганная служанка, и при виде ее
окровавленного лица Эгерт поднялся из-за стола:
- Что?!
- Госпожа Алана, - служанка хлюпнула носом, - изволят... Ужинать не
хотят, так посудой кидаются...
Танталь натянула платок на плечи. Непривычный, старушечий жест.
* * *
Поперек проезда стояла свинья.
Вероятно, то была королева свиней. Серая пятнистая туша занимала
все пространство опущенного моста, от перил и до перил - а ведь мост не
был узок, когда-то, в незапамятные времена, здесь свободно катались
кареты!
Свинья неохотно посмотрела в мою сторону - и отвернулась снова.
Где ей было меня узнать - когда я последний раз навещал родовое гнездо,
дедушка этой свиньи был еще розовым поросенком.
Тишина и упадок. Вздумай враги напасть на замок - вот он, берите
голыми руками, вода во рву высохла и мост не поднимается, потому как
подъемный механизм проржавел до самого нутра...
С другой стороны, на кой ляд врагам старая развалина, призрак
давней славы Рекотарсов?
- Уйди, - сказал я свинье. Та не обратила на меня никакого внимания
- разве что серое ухо лениво дрогнуло, стряхивая муху.
*
...Куда возвращается путник, когда дорога намозолила ему ноги?
Правильно, в отчий дом. Даже если вместо привратника его встретит серая
свинья, вместо друзей - равнодушные собаки, а вместо заботливых
родителей - располневший, подслеповатый слуга. Теперь, сидя перед
камином в поросшем паутиной зале, я и не помнил толком, зачем так
стремился сюда. Откуда взялась эта лживая надежда: вернусь, мол, домой,
и все образуется, будто по воле мага.
Поместье, как и следовало ожидать, доходов не приносило никаких,
жалкой ренты хватало только на прокорм домашним животным. В первый же
вечер управляющий по имени Итер принес мне, вздыхая, груду пыльных
расходных книжек; с отвращением пролистав мелко исписанные страницы, я
отодвинул бухгалтерию прочь. Если старый слуга немножечко и крадет - что
он, не имеет на это права?!
На другой день я открыл сундук со своими детскими вещами - и среди
школьных принадлежностей отыскал затейливо разукрашенный календарь. Лет
двадцать назад я изготавливал его сам, под присмотром учителя - про краю
деревянного круга хороводом вились цифры, ближе к центру были коряво
выписаны названия месяцев, и каждый из них сопровождался подобающей
иллюстрацией: в детстве я любил рисовать. Щекастое солнце перебирало
щупальцами-лучами, вились косматые бороды ветров, из пузатых туч
охапками сыпался нарисованный снег; я устало присел на краешек сундука,
мне страшно захотелось туда, в двадцатилетней давности вечер, когда,
выпучив от усердия глаза, я покрывал лаком уже готовую картинку...
А теперь я держу в руках собственную жизнь. Вернее, ее жалкий
остаток, потому что от вынесения Приговора прошло уже две недели, а
значит, жить мне осталось триста шестьдесят пять минус четырнадцать...
Я отыскал в письменном столе иголку и аккуратно отметил день, от
которого, по воле Судьи, ведется столь важный для меня отсчет.
А потом кликнул Итера, оделся во все лучшее, нацепил шпагу, как
подобает наследнику Рекотарсов, и отправился в поселок.
*
Староста поначалу перепугался - думал, бедняга, что я хочу скачать
с него денег. Слово "подати" с некоторых пор резало мне слух, а потому я
с милой улыбкой замял неприятный для обоих разговор. Староста
развеселился - но тут же и притих, узнав, какие именно сведения меня
интересуют. Почесал в круглой башке, потер лысую бровь, сказал с
сомнением:
- Вы, господин Ретанаар, этого... Что магов в последние годы
расплодилось - это правда, что тех крыс... При каждой деревеньке, куда
ни сунься, теперь колдун сидит... Много и обманщиков, но есть и справные
- хутор, если помните, ниже по речке, год назад наводнением смыло, среди
сухого лета вдруг гроза, смыло подчистую, и я знаю, чьих рук дело, да
только связываться с ним... Раньше болтали - перевелись, мол, маги,
скушно стало и тяжко - так на вам, теперь весело, век бы такого веселья
не видывать, сынишка мой сдуру повздорил с ЭТИМ - так назавтра молния
средь двора как лупанет! Дырку прожгло, курицу убило, я быстренько
подарки на телегу - и во двор ему, заразе, чтоб ему пусто было, а он
щерится, лыбится, подарки принимает, ничего, мол, помни мою доброту, что
только курицу поджарило тебе...
- ОН - это который? - небрежно поинтересовался я.
Староста поморщился:
- Имя, его, батюшка, язык колет, горькое имечко... Я тебе на
дощечке нацарапаю. Грамоте, по счастью, учен...
Я удивился таким предосторожностям; староста послал чумазого
мальчишку за грифельной доской, долго трудился, помогая себе языком, и
наконец продемонстрировал мне жуткими каракулями выведенное имя: "Черно
Да Скоро".
- Правильно написал-то? - с сомнением поинтересовался я. - Уж
больно имя какое-то...
- Так маг же, - пожал плечами староста. Видимо, это обстоятельство
могло оправдать в его глазах любую странность - от непривычно звучащего
имени до третьего уха на затылке.
- А живет где?
Староста не счел нужным скрывать гримасу отвращения.
*
На околице меня догнала старуха; я узнал ее. Сколько себя помню,
а она все была старухой, неизменной, в темно-красном платке, с вислыми
сиреневыми щеками и черными усиками над верхней губой. Жила знахарством,
травами, мелким колдовством и сомнительными услугами по женской части.
- Гос... подин... Ежели к Черному пойдете, то не ходите ради Неба,
тварь, он, простите, скотина распоследняя, потом не поймете, откуда
беда... Ежели приворотное зелье - это и я могу, если кого-то со свету
сжить... ну, труднее, но помогу тоже, а к Черному не ходите, у него не
то что совести - подсовестка мелкого нету...
Старуха казалась по-настоящему встревоженной; на душе у меня
царапнула непрошенная кошачья лапа, в то время как подбородок, гордый
подбородок наследного Рекотарса сам собой задрался кверху. Старуха
осеклась:
- Не хотела обидеть-то, господин... Не хотела...
Присела в неуклюжем подобии поклона, повернулась и затрусила прочь.
*
Дом был новехонький. Были в нем роскошь и щегольство, показное
богатство и несомненный вкус, но отпечатка давних и славных времен,
того особенного шарма, который самую захудалую развалюху способен
превратить в Родовой Замок - ничего этого не было и в помине. К
благородной древности жилище господина Черно Да Скоро не имело никакого
отношения: всего пару лет назад он изгнал из окрестностей соперника,
колдуна помельче, и угнездился на холме со всем своим колдовским
хозяйством.
Подниматься пришлось долго. Надо полагать, длинная и неудобная
дорога вверх проложена исключительно для гостей - сам господин Черно не
иначе как на помеле летает...
Перед воротами я остановился, но не из робости, а чтобы предаться
ностальгии: вот так, согласно семейной легенде, на высоком холме стоял
дом моего предка, Великого Мага Дамира, который был суров, но никого
безвинно не обижал, знался с Прорицателями и самого Ларта Легиара,
победителя Мора, держал одно время на побегушках...
Тем временем мое присутствие не осталось незамеченным. Черная
ворона, бесстрашно сидевшая на воротах, покосилась на меня блестящим
глазом и гаркнула, широко разевая клюв:
- Кто?!
Есть у меня недостаток - когда на меня орут, я сам начинаю орать в
ответ.
- Кто?! - повторила ворона на повышенных тонах.
- Корова в манто! - рявкнул я, и ворона взмахнула крыльями, пытаясь
удержать потерянное равновесие.
Некоторое время было тихо; ворона глядела в сторону, делая вид, что
совсем меня не замечает. Потом скрипнули ворота; в образовавшейся щели
показалась сперва рука с узкими ногтями на длинных пальцах, а потом и
хозяин дома собственной персоной - а в том, что передо мной сам господин
маг, сомневаться не приходилось, достаточно было один раз поймать взгляд
цепких, раскосых, малость сумасшедших глаз.
В первую секунду мне показалось, что господин волшебник лыс -
голова его, голая, как яйцо, радостно ловила солнечные блики.
- Господин Черно Да Скоро? - осведомился я с церемонным поклоном.
Господин маг удивленно поднял бровь. Некоторое время мы смотрели
друг на друга; хозяин высокого дома был немногим старше меня. Не годы
проели плешь у него на макушке - продолговатый череп господина мага
выскоблила до блеска острая бритва брадобрея.
- Чего? - переспросил, наконец, господин маг.
- Я хотел видеть господина Черно Да Скоро, - повторил я внятно и
терпеливо. - Мне указали на ваш дом.
Длинное лицо моего собеседника сморщилось, будто он собирался
расхохотаться. Зрачки раскосых глаз сошлись на переносице:
- Чонотакс Оро мое имя... Что касается черных, скорых и прочих
эпитетов - не соблаговолите ли поцеловать в задницу вашего информатора?
Очень не люблю чувствовать себя дураком; именно это неприятное
ощущение заставило меня закрыть глаза на грубость господина мага.
- Прошу прощения, - сказал я с самой милой улыбкой, на которую был
способен. - Примите мои приветствия, любезный господин Чонотакс. С вами
говорит правнук Великого Мага Дамира - возможно, вы слышали, что в замке
у озера владычествует сейчас некий Ретанаар Рекотарс...
У него был совершенно непроницаемый взгляд. Как у лягушки. Он не
снизошел не то что до поклона - даже до небрежного кивка. Как будто я
сообщил ему, что пасу стадо овец на ближайшем лугу.
Я подавил раздражение. Разобидеться и уйти было проще всего, но
вряд ли господин маг что-то от этого потеряет. Бритоголовому субъекту
ничего от меня не надо - а вот у меня есть надобность, и значительная,
я не красна девица, чтобы отказываться от обеда только потому, что рожа
повара мне не по нраву...
- У меня дело к господину магу, - сказал я, твердо глядя в ничего
не выражающие глаза. - Незамедлительное.
*
Мне, ожидавшему, что гостиная в доме мага обязательно погружена в
полумрак, пришлось прикрыть ладонью глаза - так туго било в окна солнце.
Три больших зеркала отбрасывали солнечные лучи, на высоком потолке
лежали три овальных световых пятна, и я не рискнул бы назвать их
"зайчиками". Ничего прыгуче-игривого в них не было, это были в лучшем
случае "солнечные хряки", а то и вовсе "солнечные коровы", массивные,
обрюзгшие, почему-то неприятные на вид; у меня, во всяком случае, сразу
же заныл затылок.
Мне было предложено кресло, по удобству сравнимое с пыточной
скамьей. Впрочем, я и ожидал подвоха - а потому сделал вид, будто
устроился вольготно.
Минут десять полагалось говорить не о чем, хвалиться древностью
рода и разглядывать висящее на стенах оружие; так, во всяком случае, я
привык поступать, посещая в странствиях чей-нибудь кичливый замок.
Господин Черно Да Скоро - вот приклеилось имечко, мысленно я называл
своего собеседника именно так - этот самый господин оружия на стенах не
держал, украшением служили развешанные тут и там пучки грубых ниток,
напоминающие колтуны нечистых волос, и разглядывать их у меня не было
никакой охоты.
Черно Да Скоро сидел напротив, за низким столиком, уперев локти в
резную столешницу и положив подбородок на сплетенные пальцы. Чуть позже
я узнал, что во всех случаях жизни он сидит только так - как будто
слабая шея его не в состоянии выдерживать груз бритой головы, как будто
обязательно нужно найти другую опору. Раскосые черные глаза сверлили
меня насквозь - и при этом по-прежнему ничего не выражали. Ни вопроса,
ни любопытства, ни даже насмешки.
- Любезный господин Чонотакс...
Я перевел дыхание и подумал, что если каждая новая фраза будет
даваться мне с таким трудом - разговор, пожалуй, не сложится.
Я рассчитывал получить нужные сведения, при этом ни единым намеком
не раскрывая собственных печальных обстоятельств. Интересующей меня
темой был Судья вообще, конкретным примером - некая юная дама,
незаменимая с точки зрения сердечной привязанности и угодившая в Судную
камеру после того, как своими руками зарезала ревнивца-мужа. Дама
получила приговор с отсрочкой - я надеялся выяснить, кто из ныне живущих
магов пролил бы свет на ее теперешнюю судьбу. На самого Черно надежда
была невелика - после рассказов старосты он представлялся мне скорее
самоуверенным провинциалом, нежели сколько-нибудь серьезным
волшебником...
Время было начинать рассказ, но слова не шли с языка. Мы молчали
минуту, пять минут, четверть часа; для хозяина, в чьем доме объявился
неожиданный гость, это уже достаточный срок для того, чтобы начать
беспокойно ерзать: а в чем, собственно, дело?
Черно Да Скоро сидел неподвижно, как изваяние. И не сводил с меня
взгляда, так что ерзать приходилось мне.
- Любезный, э-э-э, господин... Чонотакс. Меня привела к вам...
необходимость проконсультироваться со сведущим в магии человеком. Вы,
конечно же, знаете, что род мой берет начало от мага исключительной силы
и заслуг - однако ни сам я, ни покойный батюшка... к сожалению, к этой
области... не имели... касательства. Вы знаете так же...
- Давай на "ты", - негромко предложил Черно.
Меня трудно сбить с толку - но теперь я растерялся. И не сразу смог
эту растерянность скрыть.
- Давай на "ты", - повторил Черно, и его неподвижные глаза впервые
за все это время мигнули. - Дело-то действительно есть; чем болтать -
давай сразу и по-простому.
Я молчал. Мне очень не нравилось, когда инициатива так запросто
уплывала к собеседнику, да и предложения сделать что-либо "по-простому"
не радовали меня никогда.
Черно сильнее налег подбородком на пальцы - теперь его раскосые
глаза смотрели чуть исподлобья:
- Не вертись - не отвертишься... Замок развалился, имение оскудело
- или ты от хорошей жизни бродяжничаешь? Чего ты по миру искал, не мое,
конечно, дело, но что приволок петлю на шее - это заметно... Не сразу и
не всякому глазу, но видно, Ретано, отметили тебя от щедрот, давай
рассказывай, а байки я и сам выдумывать могу...
Я поморщился - слишком уж ярко бил отраженный зеркалами свет.
Слишком уж резко.
Господин маг был чересчур волен в выражениях. Ретанаар Рекотарс
никогда не "бродяжничал". Он странствовал инкогнито. Хорошее слово
"инкогнито", покрывает все неизбежные шероховатости, вот только больно
уязвимо для болтливых языков...
Черно наблюдал, как я пытаюсь сообразить, кто и где меня
разоблачил; он заранее был уверен, что все мои попытки тщетны.
- Оставь, Ретано. Тебе нет смысла меня обманывать. Я тебе нужен, а
не ты мне... Выкладывай.
Я вполне мог раскланяться и уйти. Но за пазухой у меня лежал
круглый деревянный календарь: с первого взгляда кажется, что дней в году
полным-полно, но для человеческой жизни все-таки недостаточно, даже если
не принимать во внимание уже истекшие две недели...
Я остался.
Солнце, по моим расчетам, давно клонилось к западу - но зеркала все
ловили жадной поверхностью горячие полуденные лучи, и всякий раз, когда
в своей повести я хотел чуть-чуть отступить от действительности, язык
отказывался мне повиноваться. Зеркала грубо и прямолинейно высвечивали
правду, подавляя и отсекая все остальное; мне не удавалось приукрасить
рассказ ни единой выдуманной деталью. Ловко устраиваются господа маги -
но, тем не менее, выкладывать бритоголовому Черно все подробности
последнего приключения не входило в мои планы.
- Эту часть рассказа мы пропускаем, - говорил я небрежно, не
отводя глаз, - пропускаем, как не имеющую отношения к делу...
Черно морщился, но молчал. Я не стал посвящать его в историю со
сборщиком налогов, смолчал о тюремных вшах и о предложении, с которым
обратилась ко мне Тиса по кличке Матрасница - но в остальном мой рассказ
был довольно подробным, и, доведя его до конца, я испытал нечто вроде
облегчения.
Черно Да Скоро сидел, навалившись подбородком на сплетенные пальцы.
Глаза его сделались совсем узкими, будто прорези маски:
- Еще раз, подробно. Что он сказал?
Я вздохнул. Речь Судьи по-прежнему помнилась мне до последнего
слова.
- "Дорожка твоя в тину, Ретано, - начал я с отвращением. - Ты уже в
грязи по пояс - а там и в крови измараешься..." - Ну, здесь небольшой
пропуск, а затем...
- Никаких пропусков! - рявкнул Черно, и на бритом черепе прыгнули
солнечные блики. - НИКАКИХ пропусков в тексте Приговора, неужели не
ясно?!
Я заколебался. События повернулись совсем не так, как я рассчитывал
- но, сказав "А", следует помнить и о прочих буквах алфавита. Явившись к
лекарю с непристойной болезнью, поздно краснеть и утаивать симптомы.
- "Сборщик податей, - выговорил я через силу, - повесился на
воротах, кто-то скажет - поделом, но смерть его на тебе, Ретано. Ты тот
же разбойник - где лесной душегуб просто перерезает горло, ты плетешь
удавку жестоких выдумок. Год тебе гулять. По истечении срока казнен
будешь... Я сказал, ты слышал, Ретанаар Рекотарс. Это все."
Минуту в ярко освещенной комнате было тихо. Черно не смотрел на
меня - глядел в сторону, шевеля губами, с сомнением морщась, будто решая
в уме сложную арифметическую задачу.
- Так что? - не выдержал я наконец.
- Ничего, - отозвался Черно с неожиданной беспечностью. - Ты,
понятно, хочешь, чтобы никакие Судьи над твоей душей не стояли, а?
У меня внезапно перехватило дыхание. Слишком легко прозвучали эти
слова. Слишком непринужденно.
- Никто не в праве судить меня, - сказал я глухо. - Надо будет -
сам за себя отвечу...
- Понимаю, - Черно кивнул. - Ты хочешь, чтобы я это сделал? Снял с
тебя Приговор?
- А ты можешь? - не удержался я.
Он улыбнулся.
Лицо его, лишенное выражения, вдруг преобразилось. Окрасилось
нескрываемым довольством, темные глаза вспыхнули, рот растянулся до
ушей:
- Могу.
Некоторое время мы молчали. Черно смотрел на меня, как сытый кот на
обомлевшую мышь: расслабленно, с удовольствием, с какой-то даже
отеческой грустью.
- Я могу это сделать, Ретано... Считай, что тебе повезло. Но и мне
повезло тоже - потому как даром, сам понимаешь, такие услуги никто не
оказывает...
- Сколько? - спросил я механически. Сердце мое трепыхнулось от
радости: так просто?!
Черно растянул рот еще шире - хоть это, казалось, было уже
невозможно:
- Экий ты практичный... Нисколько. Отслужи.
Оскорбление - как черствый ломоть хлеба. Так просто его не
проглотишь.
- Милостивый государь, - сказал я с отвращением, - заведите собаку
и пусть она вам служит. Или ваше последнее слово обращено к потомку
Рекотарсов?!
- А что я такого сказал? - удивился Черно.
Я сдержался.
В комнате снова повисло молчание; солнечные пятна лежали на
потолке, как пришитые. Как будто здесь, в комнате с зеркалами, время не
течет.
- Странные вы люди, - пробормотал Черно, обращаясь как бы к самому
себе. - Собирать чужие налоги в личине фальшивого сборщика - это вот
естественно для потомка Рекотарсов... А все прочее...
- Я заплачу, - сказал я зло. - Сколько скажешь, столько заплачу...
"Все прочее" - не твое... дело.
Я хотел сказать "не твое собачье дело" - но вовремя сдержался.
- Какие мы гордые, - пробормотал Черно Да Скоро, и, кажется, он был
огорчен. Вся его бесстрастная физиономия как-то потемнела, и опустились
кончики длинного рта. - Ладно... Знаешь, сколько это будет стоить?
- Я заплачу, - повторил я высокомерно, и тогда он назвал сумму.
Некоторое время я просто смотрел ему в глаза. С немым упреком;
проще всего было предположить, что я ослышался.
- Сколько-сколько?!
Он повторил.
- Ясно, - сказал я шепотом. - Ничего ты не можешь. Цену набиваешь,
паясничаешь, ты, колдун...
- Я сказал, а ты слышал, - пробормотал Черно знакомым до дрожи
голосом Судьи. - Это все.
Я облизнул губы. На секунду мне поверилось, что Черно - это и есть
Судья, только в другом обличье.
Он усмехнулся. Узкие глаза на мгновение вспыхнули - и тогда я
понял, что нет, он не Судья, но он и не паясничает. Это я ошибся -
передо мной вовсе не средней руки колдунишка. Чонотакс Оро знает себе
цену, и назначает плату за стоящий, по его мнению, товар.
Но и для меня товар ничего себе - жизнь...
- Совесть имей, - сказал я внезапно охрипшим голосом. - Я
столько... у меня таких денег нет.
Он криво усмехнулся:
- Про первое мое предложение... помнишь?
- Нет, - сказал я холодно.
Чонотакс пожал плечами:
- Тогда замок продай. Какой-нибудь купец богатый, может быть, с
родословной и купит...
- С родословной?!
- А мало ли дураков лезет в аристократы?
Я не нашелся, что ответить. Солнце било в окно, отраженные лучи
заставляли болезненно щуриться; я вдруг почувствовал, что мои глаза
устали, саднят и слезятся.
- Погаси, - выдавил я, прикрывая лицо ладонью. - Хватит...
Солнце село в течение минуты. В зеркалах отразился умиротворенный
золотистый закат, а я почти ослеп. Непросто после яркого света
переключиться на полумрак; я видел только силуэт Черно. Маг - а он
был-таки магом! - стоял у окна, спиной ко мне, и смотрел в сад.
- Ты точно можешь это сделать? - спросил я беспомощно.
Черный силуэт в квадрате окна пожал острым плечом:
- У Судьи свои сильные стороны, у меня - свои.
- Сбавишь цену?
Он обернулся. Теперь бритый череп отсвечивал мягко, матово, в
теплых закатных тонах.
- Не сбавлю. Не хочешь служить - так ищи деньги... или думай.
Головой.
Я промолчал.
- Думайте, Ретанаар Рекотарс, - официальным тоном повторил тот,
кого звали Чонотакс Оро. - Думайте... все в ваших руках.
В окно влетела ворона, сделала круг под потолком и оттуда, с
высоты, торжественно нагадила мне на колено.
*
Всю неделю, прошедшую после посещения Чонотакса Оро, мной владела
неуместная взвинченная веселость. Я искренне хвалил себя за смекалку,
позволившую отыскать выход из полной, казалось бы, безысходности; теперь
передо мной была новая задача, непростая, но бесхитростная: раздобыть к
сроку назначенную Чонотаксом сумму.
Всю неделю я пропивал последние деньги, гулял и веселился на всю
округу, так, что даже на самом распоследнем хуторе знали, что это
"господин Ретано домой возвратимшись". Потом деньги кончились, наступило
похмелье, я извлек на свет свой деревянный календарик и с ужасом увидел,
что моя отмеренная жизнь сократилась еще на семь дней.
Идею о продаже замка я с ходу отмел как циничную - подобные бредни
могли поселиться только в бритой голове корыстолюбивого Черно Да Скоро.
Из других способов добычи денег мне на ум приходили почему-то
кладоискательство, грабеж на большой дороге и шулерская игра в карты.
Я прекрасно знал, что первое подчас бесполезно, второе - противно и
опасно, а третье недостойно Рекотарса; мое радужное настроение
улетучилось, и на смену ему явилась глухая тоска. Я в который раз
пожалел, что, в отличие от легендарного предка, не способен к магии и не
учен ее премудростям.
Много десятилетий тому назад Великий Маг Дамир, чье мужественное,
чуть усталое лицо смотрело сейчас с трех разных портретов на стенах
обветшавшего замка - много лет назад этот во всех отношениях
замечательный человек одолел свирепого дракона, поселившегося во
владениях барона Химециуса. Требовало чудовище жертв или нет - о том
история умалчивает, но я склонен считать, что требовало-таки, это
кажется логичным, у барона, как-никак, подрастали две красавицы-дочери,
а сын был еще слишком мал, чтобы сесть на коня и взять в руки оружие...
Вот тогда-то в замке и появился Великий Маг Дамир, сопровождаемый
верным слугой. А чуть позже появилась вот эта гравюра, изображающая
моего предка в момент, когда он протыкает бестию копьем...
Я ближе пододвинул свечку.
Гравюра исполнена была любовно и тщательно - я видел гневное лицо
своего предка, харю чудовища, совсем по-человечески искаженную злобой и
страхом, и даже местность мог узнать - да, это южная оконечность
охотничьих угодий, мне не раз случалось гулять там еще подростком.
Помнится, в те времена я всякую свободную минуту посвящал фехтованию -
и, выхватив из ножен шпагу, самозабвенно играл в Мага Дамира, и от моих
игрищ пострадал не один куст дикой малины...
Если бы мой предок Дамир мог услышать меня и прийти мне на помощь -
разве понадобилось бы мне вступать в сделку с Черно Да Скоро?!
Тощая свечка догорала. Единственная свечка посреди темного,
заброшенного, облупившегося замка...
Я вздрогнул.
Старый Итер давно спал в своей каморке - и все же я явственно
услышал, как наверху, в запертых спальнях, тяжело отдаются чьи-то шаги.
Вниз по лестнице...
Я никогда не был трусом.
Шаги остановились у двери, ведущей в кабинет. Шорох, будто от
большой раскрытой книги; тяжелый вздох.
Тишина. Я сдержал дрожь.
Там, за порогом, никого нет. Это вздыхает замок.
Марина и Сергей Дяченко
© Марина и Сергей Дяченко 2000-2011 гг.
Рисунки, статьи, интервью и другие материалы НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕПЕЧАТАНЫ без согласия авторов или издателей.
|
|