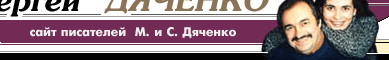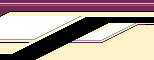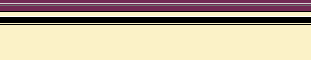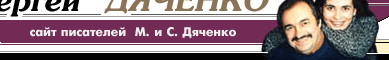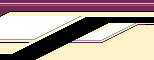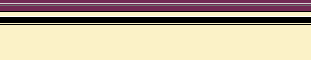|
 |
|
 |
Когда кашевар обнаружил пропажу ножа - Гринь уже бежал, пригибаясь,
хоронясь за стеной травы, возвращался к месту ночевки, добежал, остановился,
чувствуя, как бухает сердце - и отдается в голове, в груди, в руках...
Разбойник перевел на него мутный, безумный взгляд. Над ним вились мухи;
Гринь замер с разинутым ртом, судорожно стиснул рукоятку ножа - зачем только
вернулся?!
Разбойник застонал и вытянул шею. Как ягненок перед резником, ягненок с
подбритой шеей, покорно подставляющий себя под нож.
Темная лужа на вытоптанной траве. И мало воздуха, мало, хотя кругом целая
степь.
Гринь бегом вернулся к своим. Усмирил дыхание, явился как ни в чем не
бывало, будто по нужде отлучался; оказалось, впрочем, что не только дядька
Пацюк - все прекрасно все видели и давно все поняли.
На тот раз ему удалось легко отделаться - ну, приспустили вожжами шкуру,
ну, поучили законы уважать... А больше всех ярился кашевар Петро - за нож,
который Гринь так и бросил в степи.
- Сыночек... Гринюшка... ох, горе горькое...
Он открыл глаза; материно пузо нависало над ним, ничего больше не было
видно: ни лица заплаканного, ни натруженных рук, только пузо, где скрывалось
чадушко, которое не по дням, а по часам растет.
- Пустите!
Вывернулся из-под ласк. Сел, поднялся, босиком побрел на двор - по нужде.
Снег таял под жесткими, потерявшими чувствительность ступнями. Утро?
Вечер? Синеет небо, белеют столбы дыма над дымарями, чернеет одинокая ворона
на плетне...
Выкинул ли его исчезник из дома? Или он исчезника выкинул? Или попугал
только, покричал, а чортово племя его за горло - хвать!
Вернулся в дом. Ни слова не говоря, не глядя на мать, нашел торбу, ту
самую, с которой пришел с заработков. Полез в тайник за печкой, вытащил
мешочек с деньгами... Задумался. Отсыпал половину, кинул на стол - матери.
Прочее затянул бечевой, положил за пазуху. Обулся. Взял шапку, кожух.
_ Гринюшка, - сказала мать тонко, как девочка. - Не держи зла на меня! На
том свете отплатится мне, ох отплатится... А ты не держи.
Гринь молчал, затягивая пояс.
- Ты парень видный, работящий... красивый. Будет счастье тебе! Гринь не
выдержал - ухмыльнулся криво.
- Будет, будет счастье! На могилу батькину придешь - скажи отцу, чтобы не
гневался...
Все так же молча он притворил за собой дверь.
Перед порогом лежал, глубоко врытый в землю, старый осколок жернова. Лет
сто вот так лежит: и перед старой хатой лежал, а когда новую справляли - и
камень перетащили. Гринь, едва на ноги поднявшись, на камень становился. И
отец его становился, когда без штанов бегал, и дед...
Забрать бы камень с собой - так сил нет. Как нет сил, чтобы из дому
вышвырнуть змею эту, родительницу свою.
Село поглядывало из-за плетней, из-за инея на окошках; столбы дыма
подпирали небо, как колонны в том белом храме, который Гринь видел один раз
в жизни - в неимоверно далеких странах. Хотел рассказать матери, думал
Оксане похвалиться...
Перед Оксаниными воротами остановился, но стучать не стал. Ждал, пока
охрипнут собаки; наконец скрипнула дверь, вышел Океании отец - нестарый еще,
высокий мужик, почти с исчезника ростом.
- Не отдавайте Оксану за Касьяна, - сказал Гринь, как железом прижег. - Я
дом справлю богатый за рекой, в Копинцах. Одну зиму подождите. Землю
куплю... работать буду, спину крюком согну... будет куда жену привести! Не
отдавайте за Касьяна!
- Обещалка - трещалка, на хлеб не намажешь, - медленно сказал Океании
отец. - У меня четыре дочки, Оксана старшая. За второй уже Женихи вьются, а
отдать не могу, пока Оксана не пристроена. Да и слыхано ли - свекровь
ведьма!
Гриню нечего было сказать. Облизнул губы, поправил торбу на плечах.
Оксанин отец подождал-подождал, да и ушел за ворота, походя велев псу
заткнуться.
На заиндевевшем стекле темнело круглое смотровое окошко. Черный
Оплаканный зрачок.
Гринь третий день сидел в Копинцах, в шинке, когда явилась, запыхавшись,
шинкариха. И, почему-то оглядываясь, сообщила, что за рекой, говорят, одна
баба чертененка рожает - так вопит, говорят, что все село посбегалось!
Гринь был тяжел от выпитого и съеденного - а новость и вовсе прибила его
к столу, как сапог муху.
И снова на него поглядывали - не в силах скрыть любопытства; все, все
давно знали - и что за баба, и что за чертененок, и теперь неторопливо
обсуждали, пыхкая трубками, поглаживая усы:
- Чертененка, вестимо, трудно выродить... рогами, поди, цепляется!
- Нету рог у него! Мельничиха, говорят, видела батьку его, исчезника. Так
ни рог, ни хвоста. Нос как у цапли, и очи как у сыча, а так больше ничего,
только здоровый сильно.
- Тихо... Тихо, говорю! Разболтались... накличете. Вот помянете мои
слова, накличете чего...
- И точно! Молчите. Неча поминать...
Гринь бездумно проверил, на месте ли деньги. На месте - уже и рубаха,
поди, продырявилась в том месте, где о мешочек трется.
Взял со скамьи торбу. Поставил снова; обвел шинок мутными глазами, ждал,
что кто-то будет зубы скалить, над ним, Гринем, над матерью его потешаться.
Ждал и желал этого - кулаки чесались, а душа зудела. Так хотелось душе,
чтобы кулаки поработали всласть, чтобы чужие зубы трещали, а носы
сворачивались набок!
Но и все, кто сидел в тот день в шинке, понимали, что творится на душе у
Гриня. И все глаза потупились, все улыбки спрятались, никто и не глядел в
его сторону - будто его и не было. Тихо стало в шинке, тихо и благостно,
только челюсти жевали, только кошка умывалась на пороге - чисто-начисто,
розовым шершавым языком.
А пинать кошку Гринь с младенчества не приучен был. Забросил торбу на
плечо и вышел - только дверь хлопнула.
Под мостом, у проруби, возилась мельничиха Лышка. Увидела Гриня, разинула
было рот, чтобы выдать новость, - но поймала его взгляд, втянула голову в
плечи и быстро-быстро захрустела по снегу прочь, даром что ведра тяжелые.
Гринь шел по знакомой улице.
Бежал.
Бежал, торба больно хлопала по спине, разлетался снег из-под сапог, шапка
съехала на лоб, Гринь сбросил ее и швырнул в сугроб.
Перед домом редкой толпой стояли соседи. Кузнечиха, бондарь с женой, Чуб,
у которого шестнадцать сыновей, Глечик, у которого самое большое на селе
поле...
Увидев Гриня, испуганно расступились.
Он прошел между их взглядов, как челнок в ткацком станке проходит между
натянутыми нитями. Навстречу ему сама собой открылась дверь. Баба Руткая,
вечная повитуха, она не только Гриня принимала, но и, кажется, отца его.
Баба Руткая умела "завязывать пуп" не просто так, а "на судьбу". Матне,
например, завязала на обухе - чтобы был мастеровитый. А Гриню, по просьбе
матери, - на книжке, чтобы грамотный был. Только у Матни руки как крюки
стоят, а Гриня хоть и лупили в школе розгами - читать выучили плохо.
Гринь стоял перед Руткой и думал, на чем завязан пуп у исчезникова сына.
На коровьем копыте?..
- Померла, - буднично сказала баба Руткая. - Стара уже рожать-то...
Освободилась, бедняга. Отмучилась.
За спиной у Гриня зашептались, заговорили.
Гринь стоял, как оглобля. И стоял так, не слыша ничего и не видя, пока в
хате, в оскверненном отцовском доме, не замяукал младенец.
После похорон Гринь угостил людей всем, что нашел. Выпили, вытерли усы,
молча помянули, разошлись; людей было мало, только ближайшие соседи да еще
пьяницы, которым только чарку пообещай - и в пекло припрутся.
Поп не спешил уходить. Допил вторую чарку, странно, из-под брови
посмотрел на Гриня, крякнул:
- Поговорить бы, чумак...
Гринь вышел с ним в сени, а потом и во двор. Закат был яркий, и в тон ему
цвел снег, багряный, и желтый, и розовый.
Гринь был до слез благодарен попу. За то, что не побрезговал, пришел и
справил все как надо. За то, что разрешил на кладбище хоронить, - правда, в
самом дальнем углу, у пустоши, но все-таки в ограде.
Поп остановился. Поморщился, посмотрел Гриню в глаза; Гринь ждал этого
разговора - и все равно втянул голову в плечи.
- Дите... как?
Дите, Гринев новорожденный брат, сладко проспал все поминки. За печкой, в
приготовленной матерью корзине. В сухих пеленках. Многие из поминавших в тот
вечер несчастную Гриневу мать и знать не знали, что он выжил, - как-то само
собой считалось, что и дите закопали тоже.
Гринь, преодолев отвращение, рассмотрел братишку. Ни рогов, ни копыт, ни
хвоста у младенца не было. Хороший младенец, только на правой руке четыре
пальца, а на левой - шесть. То же и с ногами.
- Нечистое это дите, чумак. Непорядок, что Ярина померла, а этот
остался... Не к добру.
- В хате кадили, - сказал Гринь запекшимися губами. - Побрызгали,
освятили... Ничего ему не сделалось.
- Кабы так просто, - поп поморщился снова. - В хате образа, а этот... не
называть бы... под образами... повадился...
- Что делать-то, батюшка? - спросил Гринь. - В монастырь бы отдал его...
так до монастыря дорога двое суток, по лесу, замерзнет...
- Кормишь его? - отрывисто спросил поп. Гринь сглотнул:
- Молоком. Еще куклу ему свернул из хлеба жеваного.
- Кормишь, - повторил поп с непонятным выражением. - Ну, корми...
Вернулся в дом и спустя пять минут ушел - благословив соседей, а в
сторону Гриня и не обернувшись.
А еще спустя короткое время Гринь остался в хате один - только огонек под
образами, да младенец в корзине, да стол с остатками трапезы.
Стиснув в кулаке свечку, Гринь долго стоял над колыбелью. Личико
Младенца, вчера еще красное и сморщенное, сделалось теперь гладким и
розовым, на лбу лежал черный завиток, подрагивали губки, сосущие
несуществующую материну грудь; то ли от света, то ли от Гринева взгляда, то
ли просто время пришло - но длинные глаза младенца раскрылись. И не
мутно-голубые, как вчера, - темно-карие, как у самого Гриня.
"Ну, корми", - сказал поп.
Младенец запищал. Не бессмысленно, как вчера, - жалобно. Гринь вытащил из
кринки "куклу", чистую тряпочку, завязанную узлом, а в узле - молочная каша
пополам с жеваным хлебом.
- Жри!
Младенец зачмокал. Гринь смотрел на него, и чем больше смотрел - тем
плотнее становилась темень, тем тяжелее была решимость.
Вот вроде и на мать похож. И на самого Гриня похож, а раскроет глазки -
черт глядит с махонького личика, исчезник проклятый, мать погубивший, Гриня
погубивший, людской род ненавидящий!
- Соси-соси... слюни-то не пускай! Жри, братишка, жри, отродье, дома,
поди, не стесняйся...
Бормоча под нос, Гринь приладил к корзине две ременные ручки. Укутал
сверху материным теплым платком - да так и взвалил на спину, привычно,
словно торбу с пожитками.
Младенец чмокал под платком, будто все равно ему. Гринь оставил хату
отпертой - все равно никто не придет.
Ночь стояла темная. Небо затянуло тучами, ни звездочки, ни огонька;
собаки перебрехивались лениво - мало ли, пьяница засиделся в шинке и идет
домой за полночь... А мороз такой, что и заснуть в сугробе ничего не стоит,
а уж поутру станут будить - не добудятся...
Чем дальше Гринь шел, тем легче становилось шагать. И на душе легче, и
ноша казалась почти невесомой, и снег - неглубоким, утоптанным.
Когда вышел на берег, темнота показалась совсем непроглядной. Только
старая, еще детская память помогла найти мост и ту тропинку, что ведет от
моста вниз, ту самую, по которой ходит мельничиха Лышка.
Только однажды Гринь оступился и упал, но снег был мягкий, а младенец в
корзине только захныкал недовольно - и сразу же замолчал. Ступив на лед,
Гринь пошел осторожнее - недалеко и в полынью ухнуть.
Полынья была как черное окно. Гринь услышал, как тихонько хлюпает подо
льдом вода - дожидается лета.
Снял корзину с плеча. Отер лоб, хотя пота не было и в помине, наоборот,
брови заиндевели. Посмотрел на небо - черно, только в редких просветах
еле-еле проглядывает лунный свет.
Младенец завозился в корзине - будто почувствовал неладное. Или мороз
этой ночи проник наконец под теплый платок - единственное, что осталось
ублюдку от матери. Будто мать укрыла собой корзинку, не давая чаду
замерзнуть...
Гринь вспомнил, что ни камня не взял с собой, ни веревки. И тут же
подумал, что в полынье и камня не надо - кинуть под лед, вниз по течению - и
вся недолга.
А завтра, купив новый кожух, пояс и шапку, прийти к Оксане. Швырнуть на
стол мешочек с золотом, швырнуть новехонькую шапку к ногам родителей:
отдайте! И пусть попробуют не отдать!
Гринь скинул платок с корзины. Запустил руки во влажное тряпье, крепко
взял братца поперек тела, вытащил из люльки, понес к полынье.
Младенец не пищал. А Гринь боялся его писка - начнет верещать как
человеческое дитя, растревожит, собьет с толку...
Младенец молчал. Не чмокал, не кряхтел, не хныкал, и в темноте Гринь не
видел ни лица его, ни глаз бесовских, ни ручек, четырехпалой и шестипалой...
Налетел ветер.
- Ну уймись! Уймись... уймись...
Мать, оказывается, заранее заготовила любистка и ромашки, и мяты, и всех
трав, в которых купала когда-то Гриня.
- Уймись...
Гринь вытер орущего ребенка, спеленал в чистое. Уложил поперек сундука -
младенец затих сразу, как будто его задушили, Гринь даже подошел посмотреть,
не случилось ли чего - но нет, младенец просто спал и посапывал во сне.
Гринь сел на лавку, за неприбранный поминальный стол, и уронил голову на
руки. Закричали петухи, завопил в сарае старый горлач. Замычала недоеная
корова; только тогда Гринь встал, бездумно, как сонный, пошел в хлев, выдоил
Лыску, долго и непонимающе смотрел на подойник с парным молоком...
Скрипнула за спиной дверь. Гринь обернулся - никого. Виляет хвостом
Бровко, а уж он не молчал бы, окажись во дворе чужой.
- Забрал бы сына, - сказал Гринь хрипло. Молчание.
- Забрал бы сына... Придушу ведь... соберусь с духом - и придушу!
Порыв ветра напомнил ему ночь, плеск воды в проруби и собственный дикий
страх. Потому что ребенок, которому кричать бы во все горло, смотрел и
молчал.
Едва не сделал. Едва не исполнил, вот ужас-то, а исполнил бы - следом бы
в прорубь кинулся. Так и стали бы перед Богом - убийца и убиенный, оба во
льду.
Ведь и тогда, в степи, когда возвращался с ножом к связанному разбойнику
- выпустить хотел, путы порезать, о другом не думал. Это только когда
разбойник шею вытянул, показал, что делать надо, - тогда Гринь и решился,
овец-то видел, как режут... И сам помогал.
Одна жизнь загубленная на его счету есть. Но то ведь разбойник, которого
Гринь от мук избавил, а здесь...
Мать любистка приготовила. А Гринь ее сына - в ледяную купель хотел,
чтобы потерчонком стал, у водяного в приемышах, чтобы сторожил братца на
берегу лунными ночами...
И ведь подстерег бы.
- Забери малого, слышишь? Чертяра...
Высокая тень колыхнулась, как отражение в воде.
Гринь разинул рот. Привидение! Призрак. Свят, свят...
Младенец лежал на столе, среди пустых бутылок. Распеленатый, перевернулся
уже на живот, пытался ползти; на шее болталась цепочка, Гринь обмерев,
подошел, присмотрелся...
Медальон был круглый и тяжелый, Гринь в жизни таких не видел. Внутри
лежала на крохотной подушечке... оса; тончайшей работы, из чистого золота.
Рио, странствующий герой
Я ехал впереди. Хостик отставал на полкорпуса; за нашими спинами к'Рамоль
пытался разговорить нежданную спутницу, но Сале отвечала односложно, не так
чтобы угрюмо, но и не очень приветливо. Очень скоро я перестал
прислушиваться к их беседе - мне было о чем подумать.
Итак, неизвестный младенец, который дорог князю, как родной сын. Почему
дорог? Мне так показалось. Всякий раз, когда князь заговаривал о предмете
наших поисков, голос его менялся; логично предположить, что этот ребенок
небезразличен князю, по крайней мере небезразличен.
Родич? Племянник? Внук, в конце концов? Ведь если позволить фантазии быть
совсем уж смелой - почему у князя не может быть незаконнорожденного
сына-бастарда? Почему этот сын, загуляв за Рубеж, не мог бросить семя в
подходящую почву - семя княжеского рода, слишком ценное для того, чтобы им
вот так разбрасываться.
Крепким, однако, и очень уж смелым получается предполагаемый бастард.
Через Рубеж сопляку пройти, что крестьянскую межу переступить, -а между тем
и многим великим Рубеж оказывался не по зубам!
Князь, надо сказать, действовал решительно и умело. За короткое время ему
удалось заполучить двенадцать лучших героев края; а я уверен, шушеры
помельче набежало сотни две. Теперь, задним числом, я понимал, что
первоначально князь отбирал претендентов по единственному признаку. Как ни
разнились между собой двенадцать героев - их объединяла одна немаловажная
черта. Каждый из нас имел достаточный опыт, чтобы перебраться через Рубеж
без лишней озабоченности.
Жаль, что герои не воюют артелью. Герои эффективны только в одиночку, а
потому князю снова пришлось выбирать; кстати, признаки, по которым
производился этот окончательный отбор, мне не совсем понятны. Можно было бы
предположить, что зачерствевшим в боях воителям князь предпочтет добренького
"друга детей"... Но тогда заказ следовало передавать моему лысоватому
сопернику. Он заработал это сомнительное звание, не я.
Хостик и к'Рамоль приняли поход за Рубеж скорее с энтузиазмом, нежели со
страхом. Оба, оказывается, всю жизнь мечтали побывать там.
А кто, спрашивается, не мечтал?!
Я снял перчатку, снова тщательно рассмотрел свежую отметину у основания
большого пальца. Тужить пока не о чем. Все идет, как предполагалось;
выполнив Большой Заказ, мы одновременно угодим князю и разбогатеем
настолько, чтобы путешествовать только хорошими дорогами и только в удобной
карете. А князь со своими странностями мне не сват и не брат, и Шакал со
своими видениями... что Шакал? Ушел в землю - и камень ему подушкой.
Я глубоко вздохнул, выпрямил спину и оглянулся.
- ...Не саламандры, а саламандрики, - голос у Сале был рассудительный,
низкий и хрипловатый. - Их не надо даже потрошить, у них и потрохов нет,
только шкура жесткая, шкуру следует сдирать сразу же, пока не остыл. Голод
утоляет на сутки, сил прибавляет, ну и мужское естество взбадривает,
конечно...
Вот как. К'Рамоль и Сале нашли-таки тему для разговора.
Вечером, на привале, я воочию убедился в преимуществах охоты на
саламандриков.
Под руководством Сале Хостик развел большой костер - в неглубокой
земляной выемке, между двух толстенных поваленных стволов. Женщина очень
придирчиво отнеслась и к подбору топлива, и к порядку, в котором его следует
подбрасывать; потом подобрала юбку, засучила рукава, как заправская рыбачка,
и взялась за дело.
Крючок у нее был страховидный, тройной с зазубринами, темного металла.
Крючок крепился на тонкой черной цепочке, остававшейся холодной, даже когда
опущенный в огонь край ее делался темно-красным от жара.
Пламя плескалось, будто кипящая вода в корыте. Сале бормотала заклинание;
то есть мне поначалу показалось, что это заклинание, но очень скоро я
разобрал, что это просто песенка, вроде тех, что бормочут под нос суеверные
рыбаки: "Бери крепче, бери лучше, сладкий крючок, верный поплавок..."
Наживкой послужила половина старой подковы. Я смотрел, забыв о прочих
делах, даже нелюбопытный Хостик пришел поглядеть, а к'Рамоль - тот не
замолкал ни на минуту, то и дело лез с советами...
Прошла минута, другая; миновало полчаса, мы давно уже разбрелись каждый
по своему делу, и только Сале сидела у недогорающего костра, бормотала
неразборчиво и подбрасывала топливо.
К'Рамоль улыбался, поглядывая на ее прямую спину - и ниже. Хорошо, что
Сале не видела этой улыбки. Хостик меланхолично развел второй костерок -
поменьше, хозяйственный, и скоро мы, не дожидаясь спутницы, принялись за
ужин.
- Не вижу радости на твоем лице, Рио, - как бы невзначай проронил Рамоль.
- Вроде бы мы Большой Заказ выиграли? В люди выбились, за Рубеж едем...
Хостик вздохнул.
Я растянулся на траве. Поглядел в звездное небо, перевел взгляд на
к'Рамоля. Мельком взглянул на Хостика.
- Ребята... Кто из вас знает... такая тварь, которая и на предмете может
жить, на перстне, например... и в человеке может жить. Бывает такое?
- Не понял, - сказал к'Рамоль.
Хостик шевельнул губами; все бывает, прочитал я. Ответ вполне в Хостином
духе.
- Казнили одного аристократа, - сказал я, невольно понижая голос, чтобы
Сале не слышала. - Голова некоторое время жила отдельно от тела. Потом
пришел человек с красным камнем на пальце. Спросил: "Пойдешь ко мне на
перстень?" - и отрубленная голова согласилась. Это байка? - после паузы
спросил к'Рамоль.
- Нет.
- Что же, он так и ходил с отрубленной головой на пальце? - Рамоль
радостно оскалил зубы. - На ниточке?
- Нет, - сказал я терпеливо. - Голова после этого сразу умерла. Зато
перстень ожил.
- Байка, - вздохнул к'Рамоль и зевнул, воспитанно прикрывая пасть
ладошкой.
- Нет, - сказал Хостик, и мы оба на него посмотрели.
- Нет, - Хоста говорил еле слышно, но и этого хватало, чтобы от звука его
голоса бегали по коже мурашки. - Это Приживник. Так эту тварь у нас в
предгорьях называют. Говорят, в старых зеркалах иногда живет. В нехороших
местах... в оскверненном оружии. В человека подселяется... и хозяина
выживает. Выдавливает. Говорили, что...
Дико заверещала Сале. Доля секунды - и мы трое были уже на ногах, причем
у меня в руках оказался меч, у Хостика - стилет, у Рама - удачно
подвернувшаяся коряга.
Сале танцевала у своего костра, и на крючке у нее...
О чем-то подобном я когда-то слышал. Но вот видеть - не доводилось.
Обрывок цепи дымился и прыгал по траве, и подковы на нем не было, зато
извивалось чешуйчатое тело размером с небольшую щуку.
Сале завизжала снова. Хостик плюнул, пряча стилет, Рам хихикнул;
склонившись над добычей, мы едва не стукнулись головами.
На спине зверя ощетинился игольчатый гребень. Узкие глаза подернулись
пленкой, двупалые лапы судорожно прижались к животу. Кусок подковы встал
саламандрику поперек горла в прямом и переносном смысле - зверь издыхал.
Совладав с эмоциями, Сале обмотала руки тряпками и ловко, как бывалый
мясник, принялась свежевать тушку. К'Рамоль заинтересовался шкурой; оставив
его и Сале разделывать саламандрика, я взял Хостика за рукав и оттащил от
костра подальше.
Он не смотрел мне в глаза.
- Хоста... нельзя всю жизнь помнить зло. Особенно в походе. Особенно на
пути за Рубеж... Я тебя не держу.
Он посмотрел на меня с горьким упреком.
- ...и не гоню, - добавил я быстро. - Но мы на серьезное дело идем. Я в
тебе уверен. И в Раме. И ты будь, пожалуйста, во мне уверен, а иначе... Он
молчал.
- Хоста, - я переменил тон. - Ты этих... Приживников когда-нибудь своими
глазами видел? Или только россказни?
- Своими глазами не видел, - сказал он после паузы. И добавил беззвучно:
- Незачем мне...
У костра балагурил к'Рамоль - ему пришлись по нраву свежие саламандричьи
окорочка. Как там говорила Селе - "голод утоляет на сутки, сил прибавляет,
ну и мужское естество взбадривает, конечно..."
Приятного аппетита, дружочек Рам.
Только не объешься.
Росистым утром мы растолкали сонного паромщика и перебрались через
медленную, в ошметках тумана реку. Левый берег ее был полной
противоположностью правому - суровые каменистые холмы, никаких лесов, чахлые
деревца жались друг к другу, будто солдаты отступающей армии, отбившиеся от
своих и окруженные врагами.
- Рубеж близко, - сказала Сале, ни к кому конкретно не обращаясь.
Никто и не ответил.
На нашем пути лежал длинный овраг с крутыми склонами, живописный,
разукрашенный всеми видами степной флоры, прямо-таки звенящий полчищами
цикад. Войдя в овраг, мы уподобились бы потоку в жестком русле или колесу в
глубокой колее - только вперед либо назад, и ни шагу в сторону. Дорога же по
кромке оврага осыпалась, и путник, отправившийся поверху, так и так оказался
бы внизу - но со сломанной шеей.
- Поехали, - я свернул в овраг. Сале помрачнела лицом, но ничего не
сказала. Хостик и к'Рамоль привычно пристроились сзади.
Очень долго ничего не происходило. Над нашими головами лаковой полоской
лежало полуденное небо, каменистые склоны уходили круто вверх - овраг
боролся за право называться ущельем. Над порослями диких цветов вились
бабочки всех семейств, всех отрядов, я в жизни не поверил бы, что такое
возможно. Прежний-я, различавший оттенки цветов, умер бы на месте от
восторга, прыгнул бы в траву с сачком наперевес, кинулся, не боясь
расцарапать голые ноги...
Спина моя ссутулилась под грузом боевого железа.
О чем я сожалею?! О каком-то сопляке... Эдак любой взрослый может
лицемерно вздыхать о ребенке, которым был когда-то, - пацан-де и чище был, и
светлее челом, и талантливее, и благороднее... Да, Шакал?!
- Нет, - ответил тот, кого я по привычке звал Шакалом. - Ты - всего лишь
железный болван с навыками рукопашного боя. А тот, в коротких штанишках, -
тот был подарком этому миру, чудом, такие, как он, не в каждом поколении
рождаются, и если бы тот бедный мальчик дожил до совершеннолетия - кто
знает, каким был бы сегодня этот мир...
- Он все равно не дожил бы, - пробормотал я вслух.
- Да, - сказал Шакал, - но ведь как неприятно быть живой могилой!
- Стой! - звонко крикнула Сале и натянула поводья, и почти одновременно
вскинул руку Хостик.
Тишина - если можно назвать тишиной исступленный хор цикад. Змеиное тело,
струящееся в траве, спешащее уйти подальше с нашей дороги...
- Что, Сале?
Женщина напряженно смотрела вперед, туда, куда уводила едва заметная
среди камней дорога.
- Хоста, ты что-то чуешь?
- За поворотом, - сказала женщина очень спокойно, и спокойствие было
искусственным. - Штук двадцать... засада.
Хостик невозмутимо вытащил стилет. Я вздохнул сквозь зубы:
- Рутина... рутина, Сале. Не беспокойся.
В следующую секунду те, кто нас поджидал, вышли из-за поворота.
Да, Рубеж близко. Никогда прежде мне не приходилось видеть таких тварей,
даже в сравнении с карликовыми крунгами они представлялись экзотикой.
Больше всего они походили на железных ежей, вставших на задние лапы. На
очень больших ежей - посмотрел бы я на крунга, пожелавшего изготовить
шипастый шар из шкуры такого ежика. Головы существ сливались с туловищем,
морды казались не то чтобы человеческими - кукольными, причем вместо глаз
мерцали различимые черные бусинки. Спины и затылки были покрыты сплошной
порослью иголок, каждая сошла бы за хороший клинок.
- Приехали, - меланхолически пробормотал к'Рамоль.
Ежей было очень много. Сале не ошиблась.
Я подумал и спешился. По всей видимости, единственным незащищенным местом
у противника является живот - а бить сверху по шипастым головам
представляется малоэффективным.
- Хоста.
Он и так все знал. Стоял за моим плечом, как, говорят, стоит Смерть. Бить
буду на поражение - Хостик должен поспевать, чтобы ни один из бедных ежиков
не ушел в мир иной от моей руки. Только от Хостиной.
- Пропустите нас, - я, кажется, даже улыбнулся. - Видите ли, согласно
давнему княжескому указу все дороги считаются общественными, поселяне
обязаны пропускать путников через свою территорию, а если они отказываются -
то не поселянами их следует считать, а дикими племенами, и обходиться
соответственно... Я понятно говорю?
Болтая, я наблюдал за маневрами ежей. И ситуация казалась мне все менее
определенной - мой клинок был ненамного длиннее их иголок, а у парочки
особей, пожалуй, иглы были совсем как мой меч.
У ежей иголки - оружие обороны. А как у этих?..
Будто отвечая на мой вопрос, молоденький горячий ежик, стоявший на левом
фланге, попытался достать отступающего к'Рамоля. Прыгнул вперед, крутнулся
волчком; иглы веером рассекли воздух, лошадь Рама взвилась на дыбы, на лице
всадника обозначилась паника:
- Рио!
Из к'Рамоля такой же боец, как из меня лекарь. А ведь еще и Сале...
Молоденький ежик едва устоял - инерция взметнувшейся железной шубы чуть
не снесла его с ног. Прочие будут покрепче - вон у ежа-предводителя ножки
как пни, такого и таран не снесет!
Один на один этот предводитель - не противник мне. Но до чего их много,
перегородили ущелье, от железного лязга уши закладывает...
По коням - и бежать, сказал здравый рассудок. Искать обходной путь, я
герой, а не охотник на железных ежей... Кстати, если бы ежики кинулись на
нас, как собирались, из засады - поход мог бы уже и закончиться. Во всяком
случае, без потерь мы бы не ушли.
Предводитель шагнул вперед. Наклонил голову, будто собираясь забодать
меня; иглы с его загривка нацелились мне в лицо. И как они только таскают на
себе такую груду железа?!
- Разойдемся полюбовно, - сказал я, ни капельки не веря в мирный исход.
Еж напал.
Он атаковал не в повороте, как молоденький забияка, а кувырком - на это
стоило посмотреть. Коротенькие ножки мелькнули в воздухе; завизжала Сале -
девчонка совершенно не умеет собой владеть!.. Я ушел от двух десятков
падающих клинков; за спиной застучали копыта - к'Рамоль покидал поле боя, и
правильно делал. Еще бы эвакуировать Сале...
Доля секунды. Каскад смертоносного железа, рассекаемый воздух - и
незащищенная полоска живота на расстоянии клинка.
Я поймал его.
Меч окрасился темным. Еж пошел на очередной кульбит - но приземлился уже
на четвереньки, скорчился, прижимая к животу маленькие трехпалые руки,
сделал попытку свернуться клубком.
Я рубанул, отсекая сразу несколько иголок. Спина ежа оказалась покрыта
костяными чешуйками; Хостик хладнокровно всадил свой стилет в едва
приоткрывшуюся щель. Я отпрыгнул.
Ущелье, приведшее нас в засаду, на этот раз спасло нам жизнь. Ежам просто
негде было развернуться; я рубил и рубил, двигался "между секунд", Хостик
исправно колол и колол стилетом - но противник давил числом, грохотало, как
в кузне, как в брюхе железного дракона, меня оцарапали раз и другой, пока
несерьезно, но ситуация все более напоминала бойню.
Прямо передо мной оказалась морда молодого ежа, молодого, потому что
шкура на щеках была гладкая, без морщин, а бусинки-глаза совсем глупые, как
у щенка. Еж напряженно смотрел куда-то мне за спину, я ткнул мечом, не
оборачиваясь, некогда мне ворон ловить...
В следующую секунду передо мной были одни удаляющиеся спины. Противник
отступал, но не в панике - выглядело это так, будто отважные ежики вдруг
вспомнили, что на печке осталась кастрюля с молоком.
Я оглянулся - и застал уже распадающийся фантом. Увидел толстощекую ежиху
в окружении тающих в воздухе ежат. Ежиха неуловимо напоминала Сале - может
быть потому, что покровы иллюзии спадали; через секунду на месте ежихи
стояла некрасивая женщина, прижимающая к груди воздух, и глаза у нее были
круглые, перепуганные и радостные одновременно.
Я шагнул навстречу Сале, намереваясь обнять ее, как боевого друга. И
объяснить, какая она молодец, как здорово соображает и как умело реализует
удачные идеи... Но в этот момент Хостик расхохотался.
Он смеялся от радости и неприлично показывал на Сале пальцем, и смех его
эхом прыгал от стены к стене. Знаменитый голос Хостика, который, однажды
услышав, вовек не забудешь. Голос, обращавший в бегство орды разбойников,
голос, из-за особенностей которого Хоста почти все время молчит.
У Сале задрожали губы. Сале побелела как мел, судорожно зажала уши
ладонями - и я с опозданием сообразил, что до сих пор Сале считала нашего
друга немым.
Хостик отсмеялся. Вытер губы тыльной стороной ладони, виновато покосился
на Сале и побрел по полю боя со своей миссией милосердия.
Ежиков на поле боя осталось меньше, чем я боялся. Мне казалось, что я
штук десять положил - какое счастье, что я ошибся. Предводитель, правда,
лежал там, где упал, и еще двое были безнадежны - но молодой еж, последняя
моя жертва, понемногу подавал признаки жизни.
- Стой, Хоста...
Занесенный стилет замер в воздухе. Удивленный взгляд - стоит ли
мелочиться?!
- Погоди.
Топот копыт. Рам решил, что самое время наведаться.
- Эй, лекарь! Поди сюда, есть работа.
- Этих лечить?! - к'Рамоль едва не выпал из седла. - Да они же...
- Поди сюда, кому сказано?
Рам повиновался.
Возможно, молодой ежик еще будет жить.
Даже скорей всего.
- ...Что ж. Сале, мы теперь товарищи?
Шел пятый день похода. Сале держалась непринужденно; от нее действительно
было много пользы - не только в качестве добытчика саламандриков. Время шло,
еще через несколько дней предстоит взятие Рубежа - а значит, пора
поговорить.
- Похоже на то, - отозвалась женщина мне в тон. Хостик и к'Рамоль ехали
впереди - вроде как разъездом.
- Можно, я тебя поспрашиваю, а ты, если хочешь, меня?
- А куда деваться-то? - она улыбнулась, но в улыбке не было кокетства.
К'Рамолю, например, она улыбается совсем не так.
- Что ты еще умеешь? Кроме как иллюзии наводить? Я не ждал, что она
ответит.
- Еще след брать, - Сале пожала изящным плечом. - Чуять опасность. Через
Рубеж водить... Находить пропавшее. И еще кое-какие штучки, но - мало... Я
достаточно ответила?
- Да, спасибо, - я действительно был ей благодарен. Похоже, она ответила
совершенно откровенно. - А у князя ты давно служишь?
- Пять лет.
Кони шли, рассекая грудью высокую траву. Справа и слева, куда ни глянь,
лежало травяное море, и только иногда, будто для разнообразия, попадались
солончаки.
- Сале... Первое испытание претендентов, в гостинице... Князь тебе
поручил ВЫБИРАТЬ?
Она быстро на меня взглянула - и отвела глаза:
- Видишь ли, Рио...
- Понятно. Среди твоих умений числится еще и чутье на героев.
- На удачу, - призналась Сале неохотно. - Ты и тот лысый - самые
удачливые.
- А почему князь лысого отклонил?
- А я почем знаю?
Она легко пожала плечами. И, похоже, снова была откровенна - признаки, по
которым меня выбрал князь, нимало ее не интересовали.
Умиротворенно шелестела трава. Колыхалась, ходила волнами; лошади Хосты и
Рама плыли в стеблях по брюхо.
- А скажи, Сале... такой оруженосец у князя был, уши как лопухи... где он
теперь?
Вопрос был задан нарочито небрежным тоном; я спрашивал будто бы о старом
знакомом, зато эффект превзошел все мои ожидания. Сале вздрогнула и
посмотрела на меня так, что впору было хвататься за меч.
С самообладанием у нее явно было не все в порядке. С минуту я ждал, пока
она возьмет себя в руки, потом спросил как можно мягче:
- Я тебя обидел?
- Нет, - она злилась на себя за свою же несдержанность. - Откуда ты
знаешь... про этого оруженосца? Его уже года четыре как казнили.
- Казнили?!
- Ну да... Измена. А по-моему, так оговорили его, не такой он парень,
чтобы изменять, да и молоденький совсем...
Что-то у них с оруженосцем было. Что-то намечалось; когда некрасивая
девушка любит парня, а парня казнят по навету - трагедия может быть
невыносимой.
- Жаль, - сказал я после паузы. - Не хотел тебя огорчать. Извини... И
подумал, что князь, безусловно, доверяет Сале, а у Сале есть все основания
ненавидеть князя. Если юношу действительно оговорили... Впрочем, и она не
покинула княжескую службу, и князь ее зачем-то держит, хоть Сале ни владеть
собой не умеет, ни держать язык за зубами... Или это маска?!
Теперь женщина смотрела на меня, не отрываясь. С подозрением.
- Что? - я улыбнулся как можно приветливее.
- Откуда ты знаешь про оруженосца?
- Видел, - обычно я вру, не моргнув глазом, но тут даже врать не
приходилось. - В городе... вот погоди-ка, областной центр... там еще казнь
была знаменитая, двум аристократам за один раз головы сняли!
- Охта, - сказала Сале тихо.
- Вот-вот, - я одновременно и обрадовался, и насторожился. Ну не может
девчонка быть настолько глупой. Впрочем, кто знает... Дурам, говорят, магия
легко дается.
Некоторое время мы ехали молча. Плыли по морю высокой травы.
- Сале, извини... А перед тем, как поступить на службу к князю, этот
парень никому больше не служил?
Сале, не глядя, помотала головой. Еще один подобный вопрос - и она пошлет
меня подальше. Отчего-то верится, что как раз ругаться-то Сале вполне умеет!
Но я не стану больше спрашивать. У меня и так голова кругом; выходит,
рыцарь из моего видения, рыцарь с оруженосцем - то был все-таки князь?!
Надо будет хорошенько расспросить Хосту относительно Приживников. Хоть
это, конечно, не мое дело, князем считается тот, у кого на макушке венец, а
тот, кого я принимал за Шакала, мог попросту морочить мне голову...
- Я могу наводить на себя чары и делаться красавицей, - призналась Сале
устало.
- Зачем? - искренне удивился я.
- Вот именно - зачем? - Сале вздохнула. - Князь очень доверял Клику...
везде таскал за собой...
Она замолчала, будто оборвав себя. Выпрямила спину в седле:
- Ну, что ты еще хотел спросить?
- Князь изменился за последние годы? - поинтересовался я рассеянно. -
Так, что даже мозаику подновить пришлось? Сале молчала. Я посмотрел на нее и
понял, что ответа не получу.
Никогда раньше мне не приходилось пересекать Рубеж.
- Ну, заходите.
Мужичонка был самый обыкновенный. Встретив такого на дороге, я не
повернул бы и головы; другое дело, откуда ты взялся, мужичок, посреди
холмистой равнины, на широком перекрестке, где перевернутой подковой высятся
ржавые железные ворота?
Я невольно оглянулся, будто ища взглядом избу или сторожку. Или по
крайней мере родник, откуда страж Рубежа мог бы время от времени черпать
воду.
Ничего, естественно, - кроме камней и травы, стрекоз, цикад и бабочек.
- Заходите-заходите! Или передумали?
Сале проглотила слюну. Лицо Хостика по обыкновению ничего не выражало,
к'Рамоль если и трусил, то умело свой страх скрывал.
Я первым шагнул в подковообразные ворота.
И зажмурился, потому что глаза едва не взорвались от белого, отовсюду
бьющего света.
Рядом охнула Сале. Крякнул к'Рамоль, и только Хостик по обыкновению не
издал ни звука.
- Добрый день, господа, вас приветствует Досмотр. Назовите пункт
следования.
Захотелось оторвать ладони от глаз и заткнуть на этот раз уши. Правда,
эффекта и это не возымело бы - голос вибрировал во всем теле, отдавался в
костях, в полостях носа, в черепе и в груди.
Ответствовала, как и договаривались, Сале. У нее у единственной был опыт
путешествия за Рубеж - а выговорить название места, в которое мы идем, не
под силу даже велеречивому К'Рамолю.
- Пожалуйста, документы на контроль.
Справа меня подпирало плечо Хостика, слева - к'Рамоля. За Рамоля
цеплялась Сале; я смог чуть-чуть приоткрыть глаза. Мы стояли, как дети перед
показательной поркой, - сбившись в кучу.
- Визы, пожалуйста.
Мне показалось, что в воздухе перед Сале возникло нечто вроде пышной
пуховой подушки, и наша проводница без колебаний сунула туда свою левую
руку, после чего подушка вдруг поросла весенней травкой и рассыпалась
прахом, и тут же точно такие подушки возникли в воздухе перед Хостиком и
к'Рамолем. Мои поделыцики, поколебавшись, повторили жест Сале, причем Рам
гадливо дернулся, а Хостик оскалил желтые зубы; подушка Рама покрылась
собачьей шерстью, подушка Хостика - рыбьей чешуей, и уже секунду спустя мои
спутники яростно оттирали пострадавшие ладони о штаны, о голенища и о полы
курток.
- Вы глава делегации? Предъявите...
Белесый сгусток приглашающе возник передо мной, и я замешкался только на
секунду. Рука моя утонула будто в тине - действительно, прикосновение не из
приятных.
Большую часть искателей приключений, решившихся пересечь Рубеж без
должных на то оснований, больше никто никогда не видел. А среди тех, кто был
отвергнут Досмотром и вернулся обратно, не оставалось охотников даже близко
подходить к Рубежу.
У нас были основания и была виза, проставленная золотой иголкой
уполномоченного старичка. Никто из нас не пытается пронести через Досмотр ни
украденных мыслей, ни запрещенных заклинаний. За себя, Рама и Хостика я
ручаюсь. А Сале... она ведь лучше нас знает, что можно нести через Рубеж, а
что нельзя?!
- Спасибо. Предъявите личности для досмотра.
Сале тяжело задышала. Покачнулась, ухватилась за Рама; провела ладонью по
лицу - успокоилась, зато теперь засопел к'Рамоль. Что он предъявляет -
коллекцию совращенных девственниц? Набор благодарностей от спасенных
пациентов?
Хостик опустил плечи. Пошатнулся, но устоял; Хостику трудно, я понимаю. В
его багаже столько загубленных...
Я не успел довести мысль до конца. Досмотр накрыл меня, режущий свет
сменился темнотой, и в этой тьме жил еще один голос - сухой и скрипучий:
- Вы пытаетесь провести через Досмотр второго человека? Вторую личность?
Без визы, без документов, даже без линии жизни?
- Это тоже я, - сказал я, с трудом разлепив губы. - Он - это тоже я... На
мне заклятье.
- Вам известно, что лица под таким заклятьем, как у вас, не имеют права
пересекать Рубеж?
- Я думал...
Ничего я не думал. Впервые слышу. Никто меня не предупредил!
- Я уже очень давно под заклятьем, - я говорил, не заботясь тем, слышат
ли меня спутники. - Тот, кем я был... умер. Это тень, воспоминание... а не
человек. Пропустите меня, пожалуйста. Мне очень нужно...
- Всем нужно, - желчно сказал голос. - Вам известно, что лиц, уличенных в
нарушении визового режима, постигает административная ответственность?
Я молчал.
Вот они, недобрые предзнаменования. Вот она, встреча с Шакалом; к'Рамоль,
Хостик и Сале окажутся по ту сторону Рубежа, а меня, по всей видимости,
больше никто никогда не найдет.
Бесславный, идиотский финал.
Рука моя легла на рукоять меча. Просто так, механически - я прекрасно
понимал, что сила здесь ничего не решает.
- Ну? - желчно спросил скрипучий голос.
- Что? - спросил я в ответ.
Молчание. Чернота, головокружение; глухо, будто из-под земли, доносился
хрипловатый голос Сале... но слов я все равно не разбирал.
- Впредь будьте осмотрительнее, - порекомендовал скрипучий голос. Я
проглотил вязкую слюну.
Тьма рассеялась; свет снова ударил в глаза, и пришлось прикрыть лицо
ладонью. Сквозь пальцы я рассмотрел бледное лицо к'Рамоля, красное - Сале и
невозмутимое - Хостика.
- Счастливого пути за Рубеж!
Резкий белый свет медленно сменился мягким, белесым. Мы стояли в снегу. И
лошади наши стояли в снегу; снег валился живописными лохматыми хлопьями, и
пахло дымом. Я снова приложил ладонь к слезящимся глазам.
- Предупреждать надо, - глухо сказала Сале. - Чуть не влипли!
- Что ты ему дала? - требовательно спросил к'Рамоль. Сале молча
взобралась в седло.
- Что ты ему дала?!
- Взятку, - отозвалась Сале устало. - Поехали, нам туда, к жилью.
- Мы уже за Рубежом?
Благоговейный голос Хостика скрежетнул железом о стекло. Я отнял руки от
лица.
Наш палач, всю дорогу хранивший невозмутимость, стоял, подставив ладони
летящему снегу, и по страшной физиономии его растекалась радостная, детская
улыбка. За Рубежом... Надо же, вырвался!
- Я понимаю, что взятку, - к'Рамоль не давал сбить себя с толку. - Я
спрашиваю, что именно ты ему дала?!
Сале помолчала, решая, по-видимому, стоит ли отвечать. Вздохнула, пожала
плечами:
- Артефакт... железный крючок для ловли саламандриков. Ничего, с князя
новый стребую... Когда будем делать визу для ребенка - что-то надо будет
придумать и для Рио, иначе на повторный Досмотр не стоит и соваться.
Сале смотрела теперь на меня. С вопросом - и одновременно с упреком.
- Я не знал, - сказал я хмуро. - Не знал, что у них такие правила!
Сале, Сале, вот так Сале...
Поняла ли она, в чем заключались претензии Досмотра? И если поняла - как
восприняла новость? В отношении Заклятых всегда было полным-полно
предубеждений...
- За дело, - хрипло велел я, забираясь в седло. - Сперва найдем младенца,
а потом... потом посмотрим.
Хостик улыбался, глядя в пасмурное небо. Улыбка преобразила его лицо -
будто сфинкс, переживший века, вдруг вывалил из суровой каменной пасти
розовый влажный язык.
Чумак Гринь, сын вдовы Киричихи
Исчезник больше не появлялся. Будто ушел обратно в свою скалу. Миновала
неделя; младенец жрал, как не в себя, и рос так, что чуть не лопалась кожа.
Уже пытался сидеть, ползал на четвереньках и заползал в самый дальний уголок
на печи; Гринь боялся, что очень скоро и корзина станет для него мала.
Однажды, пососав свою "куклу", младенец внезапно разболелся - его понесло
жидким поносом, глаза затуманились, тельце сделалось горячим, как разогретый
свечной воск. Гринь нашел среди прочих травок одну "от живота", но и отвар
не помог; младенец пищал непрерывно, но и голос его был какой-то
болезненный, слабый. Гринь сидел перед корзиной, свесив руки почти до пола,
и думал, что вот и конец, что он, сам того не желая, отравил братишку, и
только бы дите не мучилось, только бы скорее все кончилось...
Прошел еще день. Ребенок отощал так, что явственно проступили ребра, и
уже не плакал - лежал тихо. Гринь ходил к знахарке, старая Ивдя сперва
отказалась пустить "чортового пасынка" на порог, но потом, сжалившись, дала
свежий травяной сбор и заговоренное ржаное зернышко.
Еще через день младенец оклемался. Попросил есть, завозился в пеленках,
высвобождая ручки; Гринь глянул на розовые разнопалые ладошки - и ушел на
двор, сел на пороге, опустил голову на руки и так сидел до темноты.
* * *
Семейство у деда было большое, ртов много, а земли мало. Женатые сыновья
не спешили отделяться; Гриня еще бесштаньком брали на жнива - будили ночью,
когда самый-самый сладкий сон. Посреди двора стоял воз, уже готовый и
снаряженный. Дед, баба, Гриневы дядья, из которых младший был ему
ровесником, отец и мать, двоюродные сестры - все оборачивались на восход
солнца, все слушали, как дед благословляет новый день и предстоящие жнива, и
всех работников, и просит хорошей погоды, здоровья жнецам и милости от поля.
Едва занимался рассвет, все пешком выходили за ворота и там уже, за
воротами, садились на воз. Вожжи были в руках у отца, кобыла ступала
торжественно, будто понимая, что ее тоже благословили. Со всех дворов, изо
всех ворот выезжали снаряженные возы. Целая процессия тянулась на поле - и
ревнивые глаза соседей отмечали, кто как снарядился да как подготовился, да
сколько жнецов выставил, да вовремя ли поднялся в это самое главное утро.
Добравшись до своей полосы, слезали с воза. Становились полукругом и
смотрели на рожь - накормит ли? Что за год будет - сытый?
А потом мужчины брали серпы, женщины, принимались вязать снопы, а малышня
вроде Гриня была на подручных работах - воды принести, еще чего...
И только когда солнце поднималось высоко и первые снопы стояли уже на
стерне - только тогда дед варил в казане кулеш и садились завтракать, и
слаже тех завтраков была только вода в чумацкой степи.
* * *
Гриня передернуло. Он поднял голову, прислушался; в хате было тихо.
Ребенок, насытившись, спал.
* * *
В степи тоже был кулеш, чумацкий, с салом; сало было настоящее, старос,
темное, с запутанными ходами червячков. А иногда попадался живой хробачок, и
седоусый Брыль балагурил, что без живчика и сало не сало.
* * *
Заскулил на привязи Бровко, зазвенел цепью. Гринь тупо смотрел на свои
ладони.
Идти к Оксане?
Куда идти? Была бы гадалка - пошел бы к гадалке.
К матери на могилу?
Ох и красавицей была мать! Ох и ревнивый же был отец... Ох и бегал же за
матерью по двору с кнутом, Гринь помнит.
А тем временем мать никогда не смотрела на сторону. И отец, напившись
пьяный, каялся, говорил, что всему виной бесстыжие хлопцы и мужики, которых
так и тянет к Ярине, будто медом здесь помазано. А Ярина не виновата, нет...
Куда идти?
Гринь вернулся в дом.
Младенец спал, причмокивая губками, рядом в пеленках лежал медальон на
слишком длинной цепочке. Гринь не раз порывался его снять - еще задушится
дите!
Порывался - но так ни разу и не попробовал. Будто удерживало что.
- Выдь, чумак. Поговорить надо.
- Заходите в дом, окажите милость.
Гринь не рад был увидеть у ворот дьяка. Сам не знал, почему так нехорошо
сделалось на сердце; дьяк усмехнулся, глядя в сторону:
- Не... ты выйди, чумак.
Гринь цыкнул на Бровка и вышел, притворив за собой калитку. И сразу же
увидел, что в конце улицы ждут, спрятав руки в рукава, соседи ближние и
дальние, всего человек десять.
И вздрогнул, потому что среди собравшихся был и Оксанин отец.
- Ты хлопец хороший, чумак. Батько твой был хороший мужик. Хоть в
бедности, а на церковь жертвовал... А за мать молись. Молись, Гриня... И,
чтобы грех не растить, чертененка надо того... экзорцировать. Беса то есть
выгнать обратно в преисподнюю... Жив-то чертененок?
- Жив, - сказал Гринь, чувствуя, как мороз дерет по спине. Дьяк скрипнул
снегом, переминаясь с ноги на ногу:
- Грех, Гриня. Гринь сглотнул:
- Знаю, что грех... Что мне, не кормить его? Орет...
- Грех, - повторил дьяк, глядя в сторону. - Напасти на село пойдут...
Недород... а то и вообще засуха. Как в тот год, когда твоих-то Бог прибрал.
Помнишь?
Гринь и рад был забыть.
Кормилица-нива изжелтела тогда и пожухла; выехав на жнива, семья долго
смотрела на мертвое поле. Отец бродил, выискивая хоть зернышко, плакал...
Зимой продали все, что было. Весной стали помирать - двое Гриневых братьев,
сестра, последним ушел отец, и не от голода даже - от горя.
- А в том году, - Гринь не узнал своего голоса, - какой был грех? Дьяк
посмотрел сычом:
- Не все знать положено... Может, тоже какая-то баба втайне бесененка
прижила. Или девка с перелесником согрешила. Или еще что... Столько народу
повымерло - страх... Ты, Гринь, не сомневайся. Давай бесененка - мы уж
придумаем, как с ним...
- Убьете? - тихо спросил Гринь. Дьяк поморщился:
- Не зыркай... тоже, поди, не звери. Сказано - экзорцизм! Слово было
нехорошее. Каленым железом веяло от слова, железной цепью да горючим
костром. Гринь молчал.
- Что смотришь, чумак? Люди собрались... давай неси чертененка.
- Брат он мне, - сказал Гринь и сам подивился своим словам. Дьяк разинул
рот:
- Что-о?!
Гринь молчал, испугавшись.
- Ты, чумак... ты смотри. Дело серьезное. Коли недород случится - тогда
уж бесененка жечь поздно будет... Дождешься, что хату тебе подпалят. Вместе
со всем... Слышишь?
Гринь сглотнул:
- Никак угрожаете мне?
- Дурень, - дьяк сплюнул. - Дурень, дурень... Дурень! Грозить тебе...
Против села пойдешь? Против совести пойдешь? Твой же батька в могиле
перевернется... хоть и так уже, поди, переворачивается... Дурень!
Народ в конце улицы переговаривался все громче. Подступал ближе - Гринь
увидел среди соседей уже и Касьяна, и Касьянова отца, который о чем-то
толковал с отцом Оксаны.
- Подумать надо, - сказал Гринь шепотом.
- Думай, - неожиданно легко согласился дьяк. - Знаю, хлопец ты умный, и
придумаешь хорошо. Как придумаешь, приходи. А не то, гляди, сами к тебе
придем.
Гринь повернулся и ушел в дом - не попрощавшись, против вежливости, не
поклонившись людям.
Ему смотрели вслед.
...Брат.
Гринь всегда был старший, самый старший, братишки ковыляли по двору,
сестра орала в корзине, родителей не было весь день, надо было качать и
баюкать, до хрипу орать колыбельные, вытаскивать неслухов из собачьей будки,
вытирать сопли, лупить хворостиной, снова вытирать сопли, утешать... В
сердцах отлупив меньшого братишку, Гринь уже через несколько минут
раскаивался, ему жаль становилось маленького, ревущего и несчастного, он с
трудом поднимал брата на руки, тот обхватывал его за шею и тыкался мокрой
мордочкой в щеку.
А вот сестру Гринь не любил. Она всегда орала и мешала спать, и
выплевывала "куклу", едва Гринь пытался заткнуть ей рот. "Люли-лю-ли!" -
выкрикивал он и качал колыбель так, что дите едва не вываливалось наружу.
"Люди-люди... Замолчи, а то задушу!"
Потом все забылось. И вспомнилось в тот день, когда сестру хоронили - она
первая не выдержала голода, с малолетства худая была и хворобая...
Гринь обнаружил, что стоит посреди комнаты с ребенком на руках. И малыш
гукает, пытаясь потрогать Гриня за усы. И чертененок теплый, и очень чохож
на мать, вот если бы только не ручки эти, четырехпалая и шестипалая.
И медальон с золотой осой.
- Люли-люли, прилетели гули... что мне с тобой делать... что мне с тобой
делать...
Он ходил и ходил по комнате, раз за разом повторяя свой вопрос, и от
частого повторения слова его превратились в лишенные смысла звуки. Младенец
не отвечал - пригрелся, заснул у братца на груди; Гринь уложил его в
корзину, пристроил сверху вышитый матерью полог. Долго сидел на лавке,
свесив руки между колен. Потом встал, оделся, взял шапку и пошел к Оксане.
- Завтра Касьян сватов присылает.
Гриня, против ожидания, пустили в хату. Оксанины сестры шушукались на
печи, Оксана стояла в сторонке и ковыряла на печи известку - хотя рано еще,
завтра будет ковырять, когда сваты придут.
Гринь присел на уголке стола. Оксанины родители сидели на лавке плечом к
плечу - почти одного роста, оба сухощавые, суровые, со складками у бровей.
- Откажите Касьяну, - сказал Гринь.
- С какой радости?
- Сам сватов пришлю.
- Что за горе! - в сердцах сказала Оксанина мать. - Извел девку,
истомил... И деньги уже есть... только куда дочь отдавать - в хату, чортом
отмеченную?!
- Бесененка выкинь, - тяжело проговорил отец. - Попа позови, пусть
покадит и все что надо прочитает. Коли пообещаешь, что завтра же, - откажем
Касьяну.
Оксана уткнулась в печку лбом. Так и замерла, не глядя ни на кого.
- Обещаешь, чумак? Чтобы завтра же... Гринь молчал.
- А нет, так убирайся! - внезапно разозлилась Оксанина мать. - Душу
тянуть из девки... чтобы ноги твоей не было!
- Он пообещает, - сказала Оксана, и по голосу ее было ясно, что она с
трудом сдерживает слезы.
- Молчи, когда старшие говорят! - Океании отец опустил на стол кулак,
так, что подпрыгнули миски и кринки. Гринь проглотил слюну.
- Обещаешь? - ласково, почти умоляюще спросила Оксанина мать. Гринь
молчал.
Океании отец поднялся с лавки. Широко распахнул дверь; прошелся по хате
холодный сквозняк. Указал Гриню на выход:
- Вон.
Гринь не шелохнулся.
- Вон, сучье племя! Ведьмачий сын, чортов пасынок, чтобы духу твоего
здесь не было!
Гринь поднялся и вышел.
В спину ему грохнула дверь; пройдя несколько шагов, Гринь наткнулся на
поленницу, споткнулся, встал, удивленно глядя перед собой и не понимая, как
это можно было промахнуться мимо калитки.
- Гриня...
Оксана выскочила ему вслед. Без свитки, босиком.
- Гринюшка, да что ж ты... да как же ты отказываешься от меня, я тебя из
чумаков ждала, молилась, на дорогу ходила, все глаза проглядела! Все думала,
как свадьба будет... как в дом к тебе приду... Гриня, не хочу за Касьяна,
откажись ты от матери своей ведьмы, от байстрюка чортового, возьми меня за
себя, обещал ведь!
- Обещал, - сказал Гринь мертвыми губами.
- Так откажешься от байстрюка?!
Гринь перевел дыхание. Положил руки Оксане на плечи, ей ведь холодно без
свитки.
В тот день его выпорол отец, как оказалось, без вины; Гринь сидел в
бурьяне под чьим-то забором и ревел в три ручья, не столько от боли, сколько
от несправедливости. Она подошла - коса до пояса, в стиснутом кулаке, в
чистой тряпочке - сокровище.
"А у меня яблоко! "
"Ну и что, - сказал Гринь сквозь слезы, - у нас во дворе целая яблоня
стоит! "
"У вас дичка, - засмеялась девочка, - а это яблоко из панского сада."
И развернула тряпочку. И Гринь вылупил глаза - такого чуда видеть не
доводилось, наливное, будто из воска, желто-розовое яблоко в пятнышках
веснушек... А запах, запах!
"Ты не реви, - благожелательно сказала маленькая Оксана. - Ты, это
самое... Хочешь, дам откусить? "
- Гринюшка... отдай байстрюка.
Он помолчал, слыша, как бьется ее сердце.
- Отда... отдам.
- Обещаешь?
- Обещаю...
- Мама! - Оксана, спотыкаясь, метнулась к дому. - Мама, батька... он
обещает!!
Громко, на весь двор, зевнул в своей конуре Серко.
Значит, судьба.
Значит, судьба тебе такая. Исчезник тебя зачал, мать моя тебя родила, Да
ты же и убил ее. А теперь все. Свою жизнь загубить, да еще Оксанину - Дорого
просишь, братишка. Так дорого, что и медальоном золотым не откупишься.
Гринь едва доплелся до дома. Все бродил кругами, оттягивал время, когда
войти надо будет, младенцу пеленки поменять да и отнести его, младенца, на
расправу, на экзорцизм.
А коли правда, что из-за этого малого новая засуха прийти может?! У кого
пять детей - останется один или двое...
Дорого просишь, братишка. Не такая тебе цена. Не понесу тебя никуда. Дам
знать дьяку - пусть сам приходит с людьми да и берет. А мне со датами надо
договариваться - чтобы завтра же Оксану засватать, завтра!
Прыть-то поумерь, Касьянка. Не для тебя девка. Вон, бери на выбор:
Присыса созрела, Секлета, Одарка...
Смеркалось.
Гринь долго стоял перед собственными воротами. Не решался войти; странно,
остервенело гавкал Бровко на короткой цепи: то ли не признал хозяина, то ли
замерз.
Вошел. Остановился среди двора. Мерещится - или дверь приоткрыта?!
"Хату простудишь, - недовольно кричала мать. - Живо дверь закрывай,
живо..."
В хате было холодно. Остатки тепла вынесло сквозняком; еще в сенях Гринь
зажег свечку.
Корзина стояла на столе пустая, вышитый матерью полог лежал рядом.
Гринь ушибся головой о притолоку.
Вот, значит, как... Пришли и взяли. Вот следы сапог на пестром
половичке... Пришли и взяли, Гринь хоть сейчас может сговариваться со
сватами, еще не так поздно, только что стемнело.
Ни о чем не думая, Гринь полез за печь и проверил тайничок. Деньги были
на месте - ничего не пропало. Хватит, чтобы стол накрыть и музыку нанять.
Хватит, чтобы земли прикупить и нужды не знать, жену баловать обновками, а
детей - пряниками.
Разве не для этого он жарился под солнцем в степи?! Разве не для этого
рисковал жизнью, отбивался от разбойников и откупался от мытарей?
Гринь стянул сапоги. Перемотал онучи; зачем-то обулся снова. Наклонился
над опустевшей корзиной - теперь Оксана будет складывать в нее чистое белье.
Корзина пахла младенцем. Кисловатым, молочным запахом.
Он застал их на площади перед церковью. Горели факелы, будто в праздник;
луны не было, зато из-за обилия звезд небо казалось обрывком церковной
парчи.
Младенец орал.
Орал от холода, или от голода, или от страха; дьяк читал что-то по книге
и, силясь перекричать младенца, охрип.
- Вы что творите?! - закричал Гринь издалека еще, на бегу. - Вы зачем
человеческую тварь невинную мучаете, Божьим словом прикрываетесь, как воры?!
Те, что стояли на площади, разом обернулись. Хмурой решимостью повеяло на
Гриня, решимостью, отчаянием и злобой:
- Отойди, чумак!
- Отойди, а то будет тебе проклятье... дом спалим - с сумой пойдешь. ..
- Нового недорода захотел?! Чумы захотел, да?!
Поначалу собравшиеся показались Гриню безликой темной толпой - но уже
через минуту он увидел и Василька с отцом, и Колгана, и Матню, и Касьяна с
братьями, и всех соседей-мужиков... Баб не было. Ни одной. Не бабское это
дело.
- Не мучьте дите!
- Зачем оно тебе надо, чумак?! Твое, что ли? Поперек горла тебе и всем...
- чертово отродье, вражье зелье! Ну что тебе надо?!
Гринь остановился.
Зря пришел сюда. Ох, зря; на одной половинке весов и Оксана, и... всё, а
что на другой?! Зря только лечил от поноса... зря молоком поил, зря на руки
брал...
- В костер бросите? - спросил он шепотом, ни к кому не обращаясь.
- В какой костер?! - удивился оказавшийся рядом сосед. - Читать надо,
пока не замолчит. Беса гнать... Это не дите орет - это бес в нем.
Младенец зашелся новым криком; Гринь покачнулся, схватил ртом морозный
воздух - и, не размахиваясь, ударил соседа в челюсть.
Хороший был кинжал. Дядька Пацюк сам его для Гриня выбрал, посоветовал
денег не жалеть. Кривой кинжал, на лету волос перерубает. Пацюк же и научил
Гриня приемам - и пригодилась наука, ох как пригодилась, особенно весной,
когда разбойников стало больше, чем ворон.
- Не подходи! Убью!
Дьяк пятился, уронив свою книгу на снег. Нехорошо улыбался Матня,
хмурились Касьяновы братья, и везде, где хватало света факелов, блестели
яростные глаза.
- Не подходи!..
Гринь набросил на младенца свою свитку. Тот замолчал, как по команде;
люди зароптали:
- Бес...
- Чует... бес...
- И этот уже бесами забран!..
- Чортов пасынок...
Матня поудобнее взял факел. Пошел на Гриня боком, отведя факел чуть в
сторону; его одернули. Отец велел вернуться - Матня оскалился и попятился
назад.
Поблескивал кривой кинжал. Мужикам постарше доводилось видеть такие
клинки - и по тому, как Гринь держал его, ясно становилось, что хлопец не в
бабкином сундуке отыскал оружие. Что хлопец тот еще.
- Камнями его, - сказали из задних рядов.
- Тихо, - поп шагнул наперед. - Гриня, уйди. На исповедь придешь,
замолишь... Уйди. Не то худо будет, слышишь, Гриня?!
- Не дам дите! - крикнул Гринь срывающимся голосом. - Нечего Мучить!
Своих вон рожайте и мучьте...
Попа оттеснили. Мужики наклонялись, искали под снегом камни; камней под
заборами было в избытке.
- Забьем обоих, - хрипло сказал Матня. - Отойди от пащенка, коли Жить не
надоело!
Гринь проглотил слюну.
А чего терять-то? Всему пропадать! Оксаны не видать больше. В отцовской
хате не жить. Только в проруби топиться - так лучше в бою, как чумак, как
мужчина...
Матня первым кинул камень - Гринь увернулся. Зато следующий камень метил
в младенца - Гринь отбил его кулаком, и рука сразу же онемела.
Потом камень угодил ему между лопаток.
Потом - в плечо.
Потом одновременно в спину, в колено и в грудь. Потом в лоб - Гринь
зашатался, но устоял. Кинжал был бесполезен - мужики держались широким
кольцом. Гринь склонился над младенцем, прикрывая его собой...
И вдруг стало светло.
- Что здесь происходит?
Камни больше не летели. Гринь поднял голову.
- ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
В свете новых, сильных факелов на толпу смотрели четверо. Первый восседал
на огромной белой лошади, закованный в невиданную гибкую броню, в руках его
был хлыст, а у пояса - сверкающий меч; двое его спутников отставали на
полкорпуса, один в черном, заросший бородой до самых бровей, страшный, как в
детском кошмарном сне, второй в зеленом, белолицый, с надменной усмешкой, и
тоже с плетью в руках.
И женщина. Такими обычно представляют ведьм - чернявая, с глазами как
уголья, да еще в мужской одежде.
Мужики побежали.
Они бежали молча, падая в темноте и наступая на упавших; дьяк убежал
первым, и книжка с экзорцизмами так и осталась валяться в снегу. Поп
спрятался в церкви и запер за собой дверь.
Гринь громко хлюпнул носом. Втянул в себя кровь.
Младенец заплакал. Сперва неуверенно, потом все громче.
Марина и Сергей Дяченко
© Марина и Сергей Дяченко 2000-2011 гг.
Рисунки, статьи, интервью и другие материалы НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕПЕЧАТАНЫ без согласия авторов или издателей.
|
|